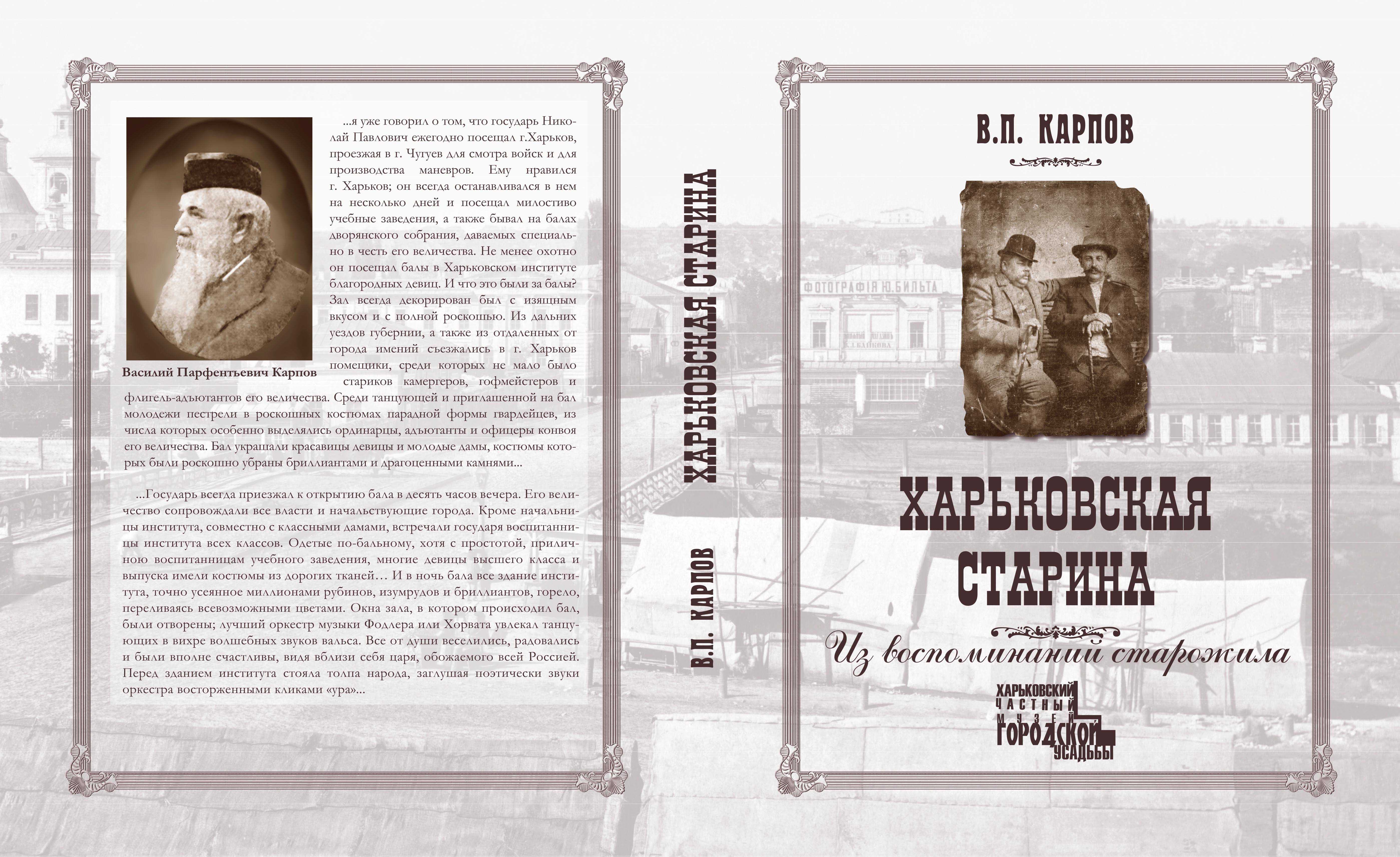Карпов Василий Парфентьевич "Харьковская старина. Из воспоминаний старожила"
Где бы я ни проходил по г. Харькову, куда бы ни обратился мой взор – везде и на всем я вижу образы давно уже прошедшей жизни. То тихою чередою проходят мимо меня когда-то жившие люди, спутники моего детства; то бурным вихрем мчатся и спешат жить люди моей юности; то робко и неуверенно, шаг за шагом, проходят мимо меня люди зрелых лет, с которыми я жил, которых слушал и о которых остались в душе моей неизгладимые воспоминания. Где все они теперь? Куда ушли, зачем не продолжали жить, не остались вместе со мной доживать свой век?
Быть может, забыты они всеми, но не забыты они мною, и я ими живу, и они живы в моей памяти, где, как в заветной книге бытия, все мною прожитое хранится отпечатанным и не бледнеет его ясный контур.
И вот в моей памяти восстает с изумительной ясностью образ одной простой крепостной женщины, лет семидесяти. Она была всем нам известна под нарицательным именем Петровны. Петровна по крепостным актам принадлежала помещице Смоленской губернии Слюзовой и была отдана купцу Чунихину на выкуп. В то время купец или разночинец, не имевший права владеть крестьянами, по обоюдному соглашению с помещиком брал нередко целую крестьянскую семью на выкуп. Семья, взятая на выкуп, должна была прослужить своему господину десять-пятнадцать лет, без всякого с его стороны вознаграждения. По прошествии условного времени она получала вольную и переставала быть крепостною и не имела ничего за душою, кроме права идти на все четыре стороны.
Анна Петровна, или, как в детстве ее звали, Анька, поступивши девяти лет к купцу Чунихину на выкуп в качестве девочки для игры забавы к двум дочерям богатого купца, а через пятнадцать лет сделавшись свободною, на двадцать пятом году своей жизни пошла мыкаться по бел-свету, переходя из дома в дом, из семьи в семью. К тридцати годам своей жизни она была уже матерью, приобретя вне брака ребенка, а с ним и неразлучный срам и позор. Но ребенок на чужих руках умер, а сама она, поступивши в мамки, начала занимать места няни при детях и на этой профессии умерла в Харькове на семидесятом году своей жизни.
Проживая по домам в качестве няни, Петровна где-то сумела выучиться читать и писать, что в то время составляло большую редкость даже между мужчинами. Уже в преклонных ее летах я встретил ее в семье купца Дунина, где был ее питомцем мой товарищ по гимназии Гаврюша Дунин. Каждый раз при воспоминании о нем у меня возникает вопрос о странной судьбе этого прекрасного юноши, дорогого сердцу товарища. Семья Дуниных была небогатая, но жила с достатком и не нуждалась ни в чем необходимом. Дунин вел торговлю игольным товаром. Как сам Дунин, так и жена его были люди добрые, ласковые и богоязливые. Да и вся семья, состоявшая из двух дочерей и одного сына – Гаврюши, тоже была очень добрая. Но у членов этой семьи как-то особенно уживались совместно и человек и зверь и шли в жизнь рука об руку. Пока жизнь в своем обыденном течении не касалась их личного интереса, зверь спал, а человек бодрствовал. Но едва заходила речь о личном интересе, человек куда-то удалялся, и на арену жизни выступал зверь во всеоружии. Загребущие когти и яростные глаза зверя делали Дунина и его супругу неузнаваемыми. А проходил порыв гнева, зверь куда-то прятался, и человек вновь выходил, полный любви и милости ко всем.
Когда Гаврюша был ребенком, нередко, не вследствие черствой души своей, а скорее от легкого взгляда на жизнь, он попадал под серьезные замечания своих родителей за то, что безучастно, а иногда и грубо относился к бедности и нищете. Ему каждый раз ставилось на вид евангелие и особенно нагорная проповедь, на основании которой твердили ему о милосердии. И Гаврюша всякий раз сознавал свою вину, даже плакал о ней и делался лучше. Доброе семя падало на хорошую почву. Влияние на него родителей было так благотворно, что он нередко в гимназии и нас наделял советами вести себя лучше. В развитии Гаврюши в этом направлении, конечно, принимала участие и няня его Петровна, которая любила его как родного сына.
Гаврюша был мальчик весьма талантливый. Он учился в числе первых и был весьма энергичен, но с пятого класса с ним что-то произошло неладное. Он начал задумываться и задавал вопросы, несвойственные его летам. Причина такой перемены таилась в происшедшем с ним случае, для всех нас неожиданном.
Один из наших товарищей, Ваня Дробушев, весьма бедный юноша, перейдя вместе с нами в шестой класс, не имел возможности сшить себе новый форменный сюртук и являлся каждый раз в класс в очень поношенной форме. Ему уже было сделано несколько замечаний и, наконец, в присутствии всех товарищей, ему было объявлено, что если он завтра явится в таком жалком виде, то не будет допущен в класс и будет исключен из гимназии. В то время не было при гимназии ни сумм для бедных, ни вспомогательных класс, ни благотворительных сборов в пользу бедных учащихся. Мы все, выслушавши такой жестокий приговор, крепко призадумались и тут же начали толковать о том, как и чем помочь горю. Но Гаврюша Дунин распорядился иначе, опередивши всех нас. У него дома висела новая форма, только что сшитая. По окончании занятий Гаврюша подзывает Ваню Дробушева, снимает с себя форму и надевает на него, а сам без сюртука, в одном форменном пальто, уходит домой. Казалось бы, что в его поступке не было ничего дурного, и мы все за такой подвиг отнеслись к Дунину со всею признательностью открытой детской души. Родители Гаврюши на его поступок взглянули несколько иначе. Мать Гаврюши была поражена, когда увидела, что он пришел из гимназии в одном пальто. Когда же пришел из лавки отец, то он привлек Гаврюшу к строгой ответственности и, не задумываясь, жестоко его высек. Но едва отец начал сечь Гаврюшу, как Петровна подбежала к нему и вырвала у него из рук своего питомца.
- Что это ты, батюшка, очумел, что ли, что бьешь свое детище? Убей меня, коли у тебя руки свербят, а его не дам тебе бить!
И Петровна увела Гаврюшу в детскую комнату. Дунины за ее дерзкое вмешательство в их права немедленно рассчитали ее.
- Не только рассчитай меня, а убей меня, а его бить я тебе не дам. Грех, великий тебе грех за него будет, батюшка! – ответила Петровна и вышла из его дома.
Так как в то время всех били и, по общепринятому мнению педагогов, ни одного мальчика нельзя было выучить без побоев, то ни нас, ни Гаврюшу не удивило то, что его побили. Но за что, за какую провинность его побили, оказалось для Гаврюши неразрешенным вопросом. И потому такая неожиданная расправа на него повлияла настолько, что он сразу изменился и сделался неузнаваемым. Он, как я уже сказал, начал задаваться вопросами, которых решить ни он, ни мы не могли. И, наконец, он решился рассказать свой проступок в классе священнику Лебедеву, преподавателю закона божия, Лебедев, выслушавши Гаврюшу, сказал, что он обязан попросить прощения у родителей и обещать им впредь так никогда не поступать.
- Да что же я сделал, батюшка, нехорошего? – спросил у Лебедева Гаврюша. – Ведь Христос сказал, чтобы мы помогали ближнему?
- Тише, тише, – строго прервал его Лебедев, – лучше тебя знают, что сказал Христос. А ты иди и не смей в другой раз так поступать.
После таких внушительных объяснений Лебедева Гаврюша словно помешался. Он сделался угрюм, перестал готовить уроки и нередко некстати повторял неоднократно один и тот же вопрос:
- Чему меня сами же учили, за то меня и побили. Что же это такое?
Стоял давно уже сентябрь на дворе. В этот год он был особенно жаркий и теплый. Многие еще продолжали купаться. А купаться в те годы было где, не то что теперь. Где в настоящее время перекинут через реку Кузнечный мост, там в то время была гребля, у которой, под сенью развесистых верб, стояла мельница, принадлежавшая помещику Барабашеву. А вверх по течению р. Харькова, за теперешним садовым заведением Грикке, была кузинская мельница-крупчатка, которая имела весьма солидных размеров плотину, известную под именем «Сомовой гребли». Левый берег реки был особенно возвышен и глубок. Но, тем не менее, это было самое любимое место для купающихся, умевших плавать. Гаврюша Дунин был большой охотник купаться и при этом был хороший пловец. В фатальный для него день, очень поздно вечером, он пошел купаться, никому не сказав об этом из домашних. Домой он не возвратился. На другой день мельники нашли его труп, всплывший у основания лотка плотины, а на крутом берегу реки его платье. Труп был одет в рубаху и брюки, но без сапог. Все решили, что Гаврюша Дунин задумал выкупаться, но оступился, попал в воду и пошел ко дну.
На погребение его была, но к родным не подходила, няня Петровна. Она подошла к гробу Гаврюши, поклонилась ему «в самую землю» и вышла из храма.
Через три года я встретил Петровну. Она жила у купца Белина и смотрела за его дочерью.
Разговорились мы с нею и вспомнили о Гаврюше Дунине.
- Да что и говорить! – горячо ответила мне Петровна, – грех отцу его, вот что я скажу! Ты думаешь, как и все, что он отступился да упал в воду? Такой пловец, как он, да не выплыл бы! Верь мне, он нарочно утонул, вот что я тебе скажу! Потому он не мог перенести такого «супротивления» речи: говорят одно, а делают другое. Говорят по-божески, а делают, как сатана велит, – вот оно что, мой милый! От этого от самого у моего Гаврюши, божьего человека, головушка кругом пошла, душа изболелася , он и утонул!…
- Да разве, Петровна, он говорил тебе, что утонуть хочет?
- Да уж коли говорю, значит, знаю. Вот тебе и весь сказ от меня!
Расстался я с Петровной, и в моей юной и пылкой голове много мыслей пробежало, и вопрос за вопросом просили ответа. А смерть Гаврюши и теперь осталась для меня загадкою, хотя я очень склонен думать, что Петровна была права…
Вскоре после Гаврюши умерла и Петровна, и умерла, исполняя самоотверженно свои обязанности до конца жизни, которую положила за питомицу свою.
Как я уже сказал, Петровна была няней у купца Белина, которому принадлежал дом, где в настоящее время помещается Северная гостиница, в Горяиновском переулке.
Однажды Петровна гуляла с своей девочкой, которая, как резвый ребенок, побежала на середину улицы за уходившей от нее собачкой.
В то время из-за угла вылетел парный извозчик-лихач – и, если бы не находчивость Петровны, девочка была бы раздавлена. Петровна мгновенно бросилась к своей питомице, повалила ее и сама легла на нее все своим телом. Лихач переехал ее всем экипажем, а лошади копытами повредили ей затылочную часть черепа. Ее подняли без чувств, но ребенок был без единой царапины.
Памятно мне то время, когда наш Харьков ежегодно был посещаем в конце августа месяца Николаем I, проездом в г. Чугуев, для маневров и смотра войск. Город чуть не за месяц начинал преобразовываться из замарашки в чистенький городок, с запасом грязи на будущее в побочных улицах и переулках своих. Так как в то время не только предводители дворянства, но и в представители думы городской избирались люди богатые, не имевшие нужды в жалованье и готовые нести службу ради почестей и знаков отличия, то не только предводитель дворянства был занят, не жалея собственных средств, исправлением дорог и мостов по украшения зала дворянского собрания для предстоящего царского бала, но также и городской голова со своими сослуживцами, бургомистрами и ратманами раскошеливались и заказывали вензеля, декоративные щиты, триумфальные арки, и даже исправлялись и чистились фонари и тротуары по протяжению главных улиц города, которыми должен был проезжать император. Целый год жители, утопая в грязи, теряя калоши в лужах и ломая свои ноги на тротуарах, не протестовали, веря крепко, что к проезду государя и грязь свезут с мостовых, и лужи засыплют, и тротуары где залатают, где вновь перестелют. Все суетились, хлопотали и радели о торжественной встрече. Все время употреблялось на благоустройство города и на обсуждение, что лучше бы замостить такое-то «багно»[1] мостовою или засыпать его песком, так как по песку легче будет ехать…
Квартальные и вся полиция в своей форме, точно красные с позолотой мухи, летали по городу и, как высокие эстетики, не жалея ни рук своих, ни пальцев, от усталости сжимавшихся в кулаки, осматривали побелку домов и окраску нескончаемых заборов, пересекаемых на Сумской улице, домиками счастья в три окошечка. Как педанты-эстетики, критически относясь к произведениям искусства, они, не жалея своего драгоценного здоровья и крови, кричали, топали ногами и внушительными движениями рук указывали недостатки в искусстве белить стены или красить заботы. Помнится мне, более других выделялся по строгости оценки и как знаток дела квартальный Стуколкин,[2] который всегда жестоко бранился, давал волю рукам и доказывал, что хороший вкус могут иметь только богатые купцы.
- Уж эта мне бедная шваль! – говорил он. – Одно невежество и необразование! Забора не умеют окрасить как следует! А почему? Вкуса нет. Грубая душа!.. Они не могут понять, что хорошо окрашенный забор – та же картина и может привлечь к себе внимание высокопоставленного лица. А там, смотришь, месяца через три Петр Иванович идет по городу с медалью на шее. А почему? Забор, красота, вкус!.. Вот оно что!..
В Чугуеве государь по окончании маневров делал смотр войскам и торжественную зарю при слиянии всех оркестров музыки, в то время бывших при полках. Помещики Харьковской губернии и богатые купцы за месяц вперед закупали у обывателей Чугуева места на время парада и зари и в самых пышных костюмах привозили своих дочерей посмотреть эту величественную картину. Затем, на возвратном пути государя, в Харькове дворянство и купечество давали бал и просили его сказать им милость своим присутствием. Девицы, получившие приглашение на царский бал, приобретали костюмы в магазинах m-me Саде и Каппель, а также выписывали платья из Москвы, от лучших модисток. Таких девиц-счастливиц обыкновенно безапелляционно называли красавицами, и они приобретали в обществе престиж обаятельных. Если же случалось, что бывшая на балу девица по общему приговору оказывалась не особенно красивой, то обзывать ее некрасивой считалось невежеством, так как на этот случай имелось особое слово.
В любое время и у всех народов язык приобретает новые названия и новые слова. Есть в текущее время не мало таких слов в обороте, которые совсем не были известны нашим отцам и дедам. Интеллигент, коммутатор, телефон – все это слова нового времени, вызванные в жизни новыми ее явлениями. Еще так недавно дворник у французов назывался portier, а в настоящее время этим словом можно обидеть самого непритязательного дворника, так как он уже более не portier, a concierge. В сороковых годах также было не мало слов, которые в теперешнее время совсем изъяты из употребления. Было в то время слово «вывозить»; в настоящее время слово это употребляется преимущественно в обиходе дворовой прислуги. В описываемое мною время слово «вывозить» употреблялось в семье, когда дочь достигла семнадцатилетнего возраста.
- Няня, няня! Папа и мама сказали, что меня пора «вывозить»! Ах, как это весело! Ах, как я счастлива! Мне теперь будут шить длинные платья с кокеткой на груди. Я теперь буду надевать трибушоны и тюлевые modestie;2 я буду бывать на балах и концертах. За меня будут свататься. А я буду говорить: «он мне не нравится». А меня будут уговаривать. Ха, ха, ха! Как это весело, как это мило!!! Come je suis heureuse![3]
Французская фраза втиснулась в русскую речь совершенно механически, вследствие привычки постоянно говорить по-французски. Быть образованным человеком в то время – значило хорошо говорить по-французски.
А кто желал услышать речь родную,
Тот шел во двор или в людскую…
Бывши лет девяти под строгой ферулой гувернера, постоянно говорившего со мной по-французски, я не мог объяснить себе, почему, в ущерб своей родной речи, все изучают чужой язык. Но дворник дома моего отца на мой вопрос пояснил мне, что все это происходит потому, что француз, когда в двенадцатом году был в Москве, то не иначе соглашался выйти из нее и заключить мировую, чтобы русские все говорили по-французски.
- Вот с тех пор господа и стали говорить по-французски. А после них нас начнут учить этому же! – сказал он, закончив свой рассказ.
Выяснивши значение вывозить, я перехожу к иному слову, которое относилось к девице, бывшей на царском балу, но не красавице. Сказать о ней, что она дурнушка, считалось большим невежеством. Обыкновенно говорили: elle a change de grimme[4].
Но не всем выпадало на долю счастье быть на царском балу, и такие несчастливицы старались тщательно скрывать, что они заказывали костюмы и покупали вещи для туалета. Они затаенной злобой выслушивали рассказы о прелестях бывшего бала.
- Да! – говорили они. – Мы бы могли быть тоже на этом балу но…
- Конечно, это очень бы дорого стоило! – спешила доказать прерванную речь хитрая собеседница, бывшая на балу.
- Совсем не то! – обиженно возражала дама, не бывшая на балу. – Нас нисколько не удержал расход, необходимый для этого бала. Любочка, покажи скорее платье и вещи, которые мы получили из Москвы.
И дочь обиженной мамаши спешила показать несносной посетительнице целую выставку вещей и платьев, высланных им из Москвы, забывая о том, что этим они обнажали свои незажившие раны.
- Да, да! – спешила сказать жестокосердная гостья, рассматривая платье и вещи. – Я не сообразила! Вы не были приглашены на бал?
- Пожалуйста, так не выражайтесь! – обиженно возражала мам Лизы. – Нас тоже приглашали, но мы не хотели быть…
Пикировка нередко заканчивалась ссорой, и дамы, еще недавние друзья, расходились непримиримыми врагами.
Еще более комичною являлась картина, когда государь спешил своим отъездом в столицу и отказывался быть на балу. Тогда многие семьи, оставшись при пиковом интересе, лгали друг другу при свидании, скрывая сделанные для бала затраты.
Но не одним комизмом были богаты эти последние дни августа месяца. Иногда разыгрывались и драмы, полные интереса, о которых я считаю долгом рассказать хотя вкратце.
В один из проездов государь, по обыкновению, делал в Чугуеве парадный смотр войскам. К его особе в это время был назначен ординарцем один из красивых и ловких офицеров, барон фон-Остенблют, служивший в одном из драгунских полков армии. Отец его, помещик Херсонской губернии, знатный барин, когда-то служивший вице-адмиралом Балтийского флота, жил в отставке в воем имении, при котором считалось восемнадцать тысяч душ крестьян.
Старик барон давно уже хлопотал о том, чтобы старик сын его был переведен в гвардию. Но это ему не удавалось и ,кажется, потому, что петербургские друзья ожидали по этому делу его самого в столицу, а он, предавшись деревенскому dolce far niente[5], ограничивался письмами.
Что касается сына его, Адольфа фон-Остенблют, то по своему образовательному цензу он не имел права быть гвардейцем. Но заслуги отца питали его надеждами на успех, и он выжидал случая. Об этом узнал и государь, обративший особенное свое внимание на временного своего ординарца.
Все шло как нельзя лучше.
В день осмотра войск, которым руководил сам государь, погода стояла прекрасная. Светлые и теплые дни в двадцатых числах августа давали возможность войскам, при полной парадной форме, совершать движения, без утомления. Громадную площадь, занимаемую войсками, окружала кольцом, построенным в три этажа, приезжая публика. Среди массы народа, как среди осенней зелени, группами пестрели красавицы-девицы и молодые дамы, одетые в роскошные костюмы и убранные бриллиантами, горевшими под лучами солнца радужными цветами. Вблизи этих едва распустившихся цветов, как бы для большего выражения красоты их, сидели бабушки и мамаши. Государь на коне постоянно объезжал галопом хорду круга кольца и тем доставлял неописанное удовольствие всем видеть его вблизи и слышать его царственный голос.
Среди этого роскошного букета живых цветов, в первом ряду абонированных мест, сидела семья известного богача, харьковского купца Ломакина.[6] Семья состояла из пожилых лет матери и ожиревшей красавицы невестки, жены старшего сына Ломакина. А посередине их сидела дочь Ломакина девятнадцати лет, по образованию институтка, прелестная Мариамна. Точно редкий цветок тропических стран под наблюдением искусного садовника расцвела она пышной радугой цветов.
С темными, как южное небо, голубыми глазами и с длинными ресницами, из-под которых смотрели задумчивые очи, Мариамна была настоящей красавицей. Прелестная шевелюра ее волос, почти белого цвета, высокий грациозный стан ее заканчивали классические черты ее лица.
Однажды когда государь поравнялся с семьею Ломакиных, ординарец его, Адольф фон-Остенблют, пристально посмотрел на Мариамну, и их взоры встретились в первый раз после двухлетней их разлуки. Мариамна не выдержала этого взгляда. Когда-то вспыхнувшее в ее душе чувство любви к этому красавцу-юноше вновь загорелось в ее отзывчивом сердце. Мариамна потеряла самообладание. Голова ее закружилась и она тихо склонилась на плечо своей матери. Император заметил все происшедшее и спустя несколько минут у своих приближенных, кто была эта красавица. Ему немедленно донесли о том, что это дочь богатого купца Ломакина, и при этом рассказали о романе Мариамны, в котором первую роль играл его ординарец, барон фон-Остенблют.
- Скажи мне, как честный офицер, – обратился государь, неожиданно для всех, к Адольфу фон-Остенблют, – ты и теперь любишь Мариамну Ломакину?
- Люблю, ваше императорское величество! – смело и чистосердечно отвечал ординарец.
- И она, как видно, тебя любит?
- Да, и она меня любит!
- В таком разе, что же вам мешает обвенчаться?
- Мой отец согласен на мой брак с нею, но ее отец старообрядец и не может допустить мысли, чтобы его дочь вышла замуж за лютеранина.
- А почему же ты не перейдешь в православие? – спросил государь и посмотрел на своего ординарца испытующим взглядом.
- Ваше величество! – смело ответил ординарец, – я не могу уважать того человека, который способен переменить свою религию ради личных выгод!…
- Молодец! – сказал государь и потрепал по плечу своего ординарца. – Я беру тебя в Петербург. Ты поедешь со мной, а там мы подумаем о вашем счастье…
По окончании маневров государь уехал в столицу и увез с собою влюбленного ординарца. Но молодой Марс, осчастливленный великой милостью монарха, не забыл о своей Мариамне и перед своим отъездом успел переслать ей письмо и получил от нее ответ.
Об одном комическом случае с купцом Животовским много говорили в городе. Этот случай, полный комизма, достаточно характеризует Животовского как человека не злого, но легко поддающегося своими чувствами. Приезд в Харьков государя в этот год состоялся очень рано. Утром, около шести часов, у ворот Университетского сада собралась толпа народа и все начальство города, для встречи государя. Здесь же, вблизи ворот сада, стояло несколько шестериков дюжих и хорошо кормленных лошадей, которых держали под уздцы ямщики, одетые в кумачевые рубахи и в поярковых шляпках, украшенных павлиньими перьями и ярлыками. Своевременно и благополучно прибыл и отбыл в г. Чугуев государь, встреченный торжественно народом и властями города и сопровождаемый громогласным «ура».
Не успело еще улечься наполнившее душу горожан торжество, как Животовский спешил почти всем и каждому передать о том, что он не только видел проехавшего государя, но что государь даже говорил с ним.
Это многих удивило, а другие, зная Животовского как балагура, с недоверием относились к его словам.
- Как же это случилось, что государь говорил с тобою? – спрашивали у него его приятели.
- Да вот как! – спешил он передать: – когда переменяли под его экипаж лошадей, я вскочил на подножку его коляски да прямо ему в лицо как крикну: ура!!! А он мне в ответ: «пошел вон, дурак!» Вот ей-богу же не лгу, а правду говорю! – с восторгом рассказывал добродушный счастливец.
Животовский торговал в Шляпном переулке шляпами и картузным товаром. Он был всеми любим за свой веселый нрав. Маленького роста, с лицом, изъеденным оспой, живой, вертлявый, весьма подвижный, весь его habitus[7], совместно с характером, напоминали собой священную обезьяну индусов – макаку. Под таким названием он был известен среди своих приятелей. Но он не обижался за это. У него нередко вскользь сказанное слово мгновенно превращалось в дело. Он был душкою кружка и желанным гостем у всех и во всякое время.
До приезда С.А. Кокошкина[8] в г. Харьков в качестве генерал-губернатора, колокольня храма св. Николая стояла особняком на довольно далеком расстоянии от храма. В нижнем этаже этой деревянной колокольни помещались лавочки, в которых продавались люльки (трубки), кресала, кремни, трут, табак, соль, сало, мел и пр. Иногда в праздничный день гончары привозили своей работы глиняную посуду и расставивши ее вокруг колокольни, ожидали покупателей. Однажды Животовский, отстоявши раннюю обедню, вышел из храма и подошел к одной молодой горшечнице. Указывая своею тростью на кувшин, он свалил его и отбил у него ручку. Взвыла Наталка и напала на купца с упреками и бранью.
- Ах ты, негодная! – вспыливши, крикнул Животовский на Наталку. – Так вот же тебе!…
И обиженный купец пошел вприсядку плясать и выкидывать различные антраша по всей расставленной посуде.
Наталка полакала на всю площадь. Другие торговки обступили плясуна, кричали и толкали его из стороны в сторону. Бабы начали вопить и кричали:
- Ратуйте!
Весь народ, вышедший из храма, наблюдал эту картину, полную жизни и комизма. Гомерический смех, рукоплескание толпы, стоны Наталки и вой баб разносились по всей площади.
Уставши до упада и обливаясь потом, Животовский остановился среди развалин глиняного Карфагена и как победитель смотрел на окружавшую его толпу, отирая с лица пот.
- А что, будешь браниться? – спросил он весело у Наталки. – Сколько тебе стоит побитая посуда?
Все торговки сообща начали считать побитую посуду и определили ценность ее в десять рублей. Животовсий вынул требуемую сумму и вручил ее Наталке.
Я сказал выше, что Адольф перед своим отъездом в Петербург успел послать письмо Мариамне и получил от нее ответ. В то время этого нелегко было достигнуть, и потому я остановлюсь на этом факте. В то время пробраться в купеческую семью и особенно получить свидание с девушкой было настолько же трудно, как пробраться за стены монастыря в часы глубокой ночи. Но молодость бесстрашная да любовь пылкая способны горы передвигать и пролагать путь там, где стоят твердыни каменные и горят костры пламенные…
То было время, по крайней мере для Адольфа и Мариамны, когда
И любовью жизнь была полна,
И верой в счастье дышала,
Казалось – век была весна
И красота не увядала!..
Адольф придумывал, как и с кем послать письмо Мариамне, прося в этом письме дать ему категорический ответ, хотя бы только в одном слове, да или нет, на его предложение ждать его их Петербурга. Зная замкнутое, почти монастырское житье Мариамны в доме своего отца, он терялся в поисках modus’a agendi[9], который бы можно было применить к достижению желаемого. Неожиданный случай помог ему выйти из этого заколдованного круга.
Утром он был в семье своего ротного командира А.П. Булатовского и за чашкой утреннего кофе вел беседу с его женой и дочерью, которые, между прочим, были заняты пересмотром различных кружев и вышивок у бывшей в это время у них маркитантки из Белгорода. Дамы остановили свое внимание на вышитом по тюлю покрывале для стола и не сходились в цене с продавщицей.
- Нет, государыня! – сказала, наконец, белгородка. – Ей-же-ей я за вашу цену не отдам такую работу. Будь я в Харькове, я понесла бы их к Ломакиным, и они бы дали мне за них что следует.
Для влюбленного довольно было этих слов. По ним, как по канве, он быстро набросал целый узор и начал вышивку.
- Вы не возьмете этого покрывала? – быстро спросил Адольф у своих дам.
- Нет, не возьмем! – ответили дамы.
- В таком случае позвольте мне его купить в подарок pour ma tante[10]
- Пожалуйста, не стесняйтесь! – поспешно ответили дамы.
Адольф немедленно заплатил деньги белгородке за покрывало и просил ее, чтобы она через час зашла к нему по указанному адресу.
Белгородка ушла; дамы поздравили его с покупкой, а барон поспешил предложить своим дамам принять от него это покрывало как память последнего его свидания с ними.
Все кончилось как нельзя лучше и, с надеждою на успех в задуманном деле, он поспешил в свою квартиру, чтобы встретить белгородку и дать ей поручение.
Белгородка не заставила ожидать себя.
Адольф ласково принял ее и, угостив вином и закуской, не торгуясь купил у нее еще несколько ценных вещей.
- А скажи мне, Афросиньюшка, ты часто бываешь у Ломакиных? – спросил ее Адольф.
- Да как же, голубчик офицер, не часто? – как бы обижаясь за недоверие к ее словам ответила белгородка. – Ведь я, голубчик, барышню-то Мариамну вынянчила. А они-то – наши, правоверные старообрядцы. У них в доме своя молельня. А под среду всенощная бывает. А родом-то Ломакин из Стародуба, где самые что ни есть благочестивые христиане живут и веру держат накрепко.[11]
- Ах, как все это интересно! – притворно восторгался Адольф. – А скажи мне, дорогая моя, и дочка с тобою хороша?
- Да уж так хороша, голубчик офицер, что и говорить нечего!...
- Закуси же, закуси, Афросиньюша! – наливая рюмку портвейна, угощал Адольф свою гостью.
- Да уж и так много!.. – Мариамнушка, голубушка сизая, уж вот какая она мне жалкая. Да что и говорить! Невеста – краля бубновая, царица сказочная – да и все тут. И господь-то ей пару назначил, а отец перечит. Не отдам, говорит, не за своего человека, да и конец! А приданного-то за нею, почитай, полсотни тысяч будет.
- А скажи мне, милая, не можешь ли ты отнести ей вот это письмецо и ответ от нее получить? Ведь жених-то ее – это я, Афросиньюшка. А отец ее перечит нашему счастью.
- Адольф подал ей маленькое письмецо.
- Да уж это я знаю, как спроизвести для моей золотой Мариамнушки! Вот как сделаю: ни гусь, ни фагот, ни дудка не узнают, как я все сделаю для моей красавицы. Так это, значит, голубчик, ее избранны, желанный? Да какой же ты хорошенький! Тьфу, тьфу!..чтоб не сглазить!
В этот же день Афросинья была отправлена на тройке наемных лошадей в Харьков. Через два дня на той же стройке Афросинья приехала обратно в Чугуев и привезла обратно его письмо распечатанным. Он бегло пробежал письмо и на конце его, у своей подписи, прочел два слова, написанные ее рукою: «Твоя Мариамна»…
Адольфу только и нужно было.
В благодарность за услугу он одарил Афросинью деньгами и, взявши ее адрес, через несколько дней уехал в столицу со свитой императора.
Не менее интересный случай, припоминаю я, совершился в этот раз при выезде государя из Чугуева на обратном пути в Петербург.
Был в Харькове в то время известный всему богатому люду извозчик-лихач Аким Баженов. Он имел собственные тройки лошадей, и все купцы знали его как лучшего троечника, которого нанимали возить их Москву за покупкою товаров. Во время же больших ярмарок в Харькове Баженов Аким сам ездил на тройке легковым извозчиком. Сбруя его была всегда вычищена и украшена посеребренными бляхами и бубенчиками, подобранными под гамму тонов. Об этом лихом извозчике ходило по городу несколько легенд. Впрочем, легенды о нем слагались не без основания, и многое, выделявшее его из среды ямщиков, составляло для легенд тот raison d’etre[12], который вызвал к ним доверие. Дело в том, что Аким держал себя не как ямщик, а как интеллигент среднего круга. Он был хорошо грамотный, всегда чисто одетый, предупредительный, а главное – идеально честный. И поэтому о нем говорили, что он был родом дворянин, помещик, страстный любитель лошадей. Он будто бы продал свое имение и на эти деньги начал содержать лошадей и экипажи для выезда. Другие говорили, что Аким Баженов побочный сын одного князя, отданный на вскормление одному выездному извозчику, у которого и пристрастился к лошадям, а потом и сам сделался извозчиком, истративши на приобретение лошадей и экипажей две тысячи рублей, которые были будто бы положены его отцом на его имя в какое-то учреждение. Какая из этих двух легенд ближе стояла к истине, сказать трудно. Но тем не менее Аким стяжал себе любовь и уважение не только со стороны обывателей города, но даже и со стороны богатых помещиков. Впрочем, в те годы романтизма, в дни застоя жизненных сил и стремлений, энергия, направленная к израсходованию себя на что бы ни было и во что бы то ни обошлось, была явлением, если не заурядным, то и не редким. Наши поэты и писатели дали нам в своих произведениях не мало таких типов, которые, не имея к чему применить свои талантливые силы, нередко бившие ключом, – начинали заниматься донжуанством, черной и белой магией, вопросами, не совместимыми с требованиями текущей жизни, и даже разбоям. Печорин – Лермонтова, Цыгане (Алеко) – Пушкина, Дубровский – его же, Евгений Онегин, Рудин – все это правдивые типы тех талантливых людей того времени, которые расходовали свою энергию и силы на жизнь бессодержательную, пустую и далеко не отвечавшую их талантливости. И Аким Баженов, быть может, был одним из таких несчастных, которым суждено было прожить жизнь, испытывая мучения Тантала.
Как я уже сказал выше, Аким Баженов был идеально честный человек, что и доказал он неоднократно. Нередко ему приходилось владеть довольно крупными суммами денег, принадлежавшими богатым купцам, хорошо поторговавшим на ярмарке и перед отъездом в Москву любившим кутнуть, заехавши на всю ночь в ресторан, стоявши далеко за околицей города Купец нередко имел при себе в кармане по несколько тысяч денег и верил, что Баженов не оставит его без надзора на случай, если он будет сильно хмелен.
Привезя однажды в один из таких притонов купца, охмелевшего до потери сознания, Аким остановил свою тройку в версте от ресторана, вынул из бокового кармана седока толстую пачку денег и, прикрывши его фартуком от саней, привез в таком положении в ресторан, где уложили его спать в отдельном номере.
К вечеру другого дня торговец уже у себя дома совсем оправился и узнал, что деньги у него вынуты кем-то из кармана. Купец крепко призадумался, но никому не сказал о своем гору. Но Аким не заставил себя долго дожидаться. Когда совсем стемнело, он приехал к своему седоку и по докладу приказчика вошел к нему в комнату.
- Что тебе, Аким? – спросил его купец. – С тобою, чай, мне надо расплатиться?
- Да это пустое дело, Петр Фомич! – ответил ему Аким, – а вот получите ваши часы с цепью, да посчитайте, все ли ваши деньги целы.
И Аким положил на стол пачку денег, часы и цепь.
Считаю излишним говорить о том, что купец был поражен до глубины души такою идеальною честностью извозчика-лихача.
Но мы еще не раз возвратимся к Акиму Баженову и потому теперь перейдем к случаю, происшедшему с ним во время проезда государя.
Как лихой ямщик, изучивший в совершенстве езду на тройке и любившей ее чувством артиста, Аким на этот проезд государя из Чугуева в Харьков испросил у начальства дозволение поставить на двух станциях от Чугуева до Харькова два своих четверика лошадей и привезти государя в Харьков. Зная его лошадей и роскошную сбрую, а также его уменье ездить, ему без затруднения дали согласие, и он с восторгом ожидал этого дня. Но во время самого выезда государя из Чугуева, вследствие како-то интриги, хотя в экипаж государя запряжены были лошади Акима, на козлы кучером был посажен не он, а один из ямщиков казенной почты.
Баженов не вошел в спор и пререкания со станционным начальством. Но едва государь вышел к экипажу, как он уже на коленях стоял у коляски и низко кланялся ему:
- Что тебе надо? – спросил его государь.
- Ваше величество, государь-батюшка, осчастливь лихого своего ямщика, дозволь провезти тебя до Харькова.
- А где твои лошади?
- Лошади запряжены мною в коляску твою, а сесть мне на козлы не велят. А я, государь-батюшка, тридцать лет езжу ямщиком и знаю свое дело, и меня все знают! – смело и толково ответил Аким.
- Спасибо за желание! – ответил милостливо государь. – Садись на козлы и вези меня. Я посмотрю, какой ты ездок.
- Государь-батюшка! – с восторгом ответил Баженов, – сам костьми лягу на сырую землю, а тебя, государь, привезу благополучно!..
Абзац вскочил на козлы, и лошади, почуяв своего любимого хозяина, весело и дружно тронули с места коляску и легче птицы быстролетной покатили экипаж по грунтовой дороге.
В Рогани Акима уже ожидали его лошади на подставу и потому задержки в упряжке не было никакой.
Приехавши благополучно в Харьков, государь остался очень доволен ездою Акима Баженова, подарил ему пятьдесят рублей и сказал, что он берет его к себе в столицу вторым выездным кучером.
Баженов был в восторге от такой неожиданной милости к нему государя и начал собираться в Петербург. Но что-то не улеглось на его душе; он медлил своим отъездом и с неохотою распродавал свои экипажи. Особенно же ему жаль было расставаться со своими любимыми лошадьми.
- Эх, други мои золотые, лошадушки мои милые! Тяжело мне расставаться с вами, тяжело мне отдавать вас в чужие руки.
Но как бы то ни было, а нужно было собираться в путь, и Аким продал своих лошадей, продал и свои экипажи и с тоской тяжелой по своим коням уехал в Петербург.
Недружелюбно принял Акима Петербург. Климат северной столицы плохо повлиял на него, и он на первых же днях своего приезда, не сделавши ни одного выезда с государем, заболел и на три недели слег в постель. Затем пошли контры и интриги среди сослуживцев, и ему казалось, что весь царский двор вооружился против него и питает к нему затаенное зло. Не раз пришлось ему увидеть умышленные подвохи под него в делах, касавшихся его ответственной службы. И вспомнил он про родину, перенесся мыслями в Харьков, где он среди своей братии по ремеслу был первым, где и млад, и стар ямщик шли к нему за советом и кланялись ему; вспомнилось ему и то время, когда не только купцы, но и помещики уважали его и на случай покупки или выездки лошадей шли к нему з советом и поручали ему осмотреть и приготовить для них пару-две лошадей. А тут среди роскоши и полного довольства он – последний, его никто не хочет знать, его обходят даже с умыслом.
Вот уже третий месяц он живет во дворе царском – и все еще ни разу не выезжал ни с кем из придворных лиц. А о государе и говорить нечего. Его светлые очи за все время он видел только раз – когда его представляли, в скорости по его проезде.
Затосковал Аким Баженов по Харькову, испросил себе отставку за болезнью и в декабре выехал в Харьков, а на праздник рождества Христова он уже ездил с седоками своею тройкой на катанье, о котором я в свое время поведу речь.
Для большинства людей дни проходят быстрой чередой, слагаясь в недели. Но для Мариамны дни ползли улитой, и не было утра, чтобы она, стоя на молитве перед темными ликами святых домовой молельни, не просила их, да приснится ей в грядущую ночь сон вещий и да поведает он ей о нам. И она время от времени повторяла строки из его письма: «жди меня, и я приеду за тобой и увезу тебя, и перевенчаюсь с тобой».
- Кажется так! – спрашивала она у своей памяти и, не получая от нее категорического ответа, сожалела о том, что не оставила себе его письма.
Не раз уже она обращалась к матери, чтобы послать за любимой няней Афросиньей, так как ей будто бы неотлагательно нужны были кружева, или же просто она соскучилась, давно не видавши ее. Но ни сны, ни даже Афросиньюшка своим присутствием не могли успокоить ее тоскующего сердца. Она не на шутку начинала тосковать, терпение ее оставляло, и горькое чувство сомнения, как змея, заползло в ее душу, обдавая холодом ее ум и сердце.
Она начинала обвинять самое себя. Ей начинало казаться, что она не так написала ему ответ, что из двух слов «твоя Мариамна» ничего нельзя было ему понять, что он совсем не приедет за нею.
Но всему бывает конец. Пришел конец и ожиданиям Мариамны. Барон Адольф фон-Остенблют получил отпуск в Малороссию на три месяца и, заручившись разрешением на женитьбу, приехал в Харьков, захвативши по пути из Белгорода Афросинью.
Мариамна повеселела и с каждым днем как роза расцветала. Она любила Адольфа всею силой своей девичьей души, и брак с ним представлялся ей высшим счастьем, за миг которого она готова была заплатить своею жизнью.
Это чувство пылкой девичьей души еще более окрашивалось в радужные цвета счастья тем, что он не общепринятым путем, как всем объявленный жених, приедет и перевенчается с нею, нет, он увезет ее, и никто об этом не узнает. Как много поэзии в этом! Как много счастья обещает такой брак! Все это напоминает интересную страницу из романа…
Думаю, что читателя не удивит такой взгляд девушки, получившей лучшее образование того времени. Романтизм, привитый романами французской литературы, вполне совпал с высотою тогдашнего уровня нашего общества. Особенно же романтизм пришелся по душе русской женщине, которая живя замкнутою в железное кольцо жизнью, искала свободы, нередко до самоотвержения. И чем богаче была семья, в которой расцветала молодая жизнь девушки, чем более соприкасалась эта семья с высшим кругом общества того времени – тем крепче сжималось это железное кольцо.
А между тем ум не спит, сердце работает энергично, и душа рвется куда-то вдаль. Она, не переставая, чего-то желает, ищет, ждет и, как дитя, не умеет объяснить своего положения…
Поэтому выйти замуж с тайным побегом, – такое детское желание, идущее вразрез с развитым умом, – в ре дни было явлением обычным.
Какой русский человек равнодушно отнесется к быстрой езде на санях по пушистому снежному пути, когда под полозьями саней снег скрипит, а лошади бегут, бегут, забрасывая седока снежною тонкою пылью, которая старику седины скрывает, а молодежь, точно насмех, сединой дарит! Но еще заманчивее, еще поэтичнее езда на тройке при хорошем искрометном морозе в тихую лунную ночь. Езда с бубенцами, подобранными под тон, в санях, обитых хорошим ковром м укрытых медвежью полостью, в санях широких, мягких, точно взбитая перина!.. И сидит в них лебедушка-красотка, прячась от мороза и прижимаясь к плечу сердечного дружка, красна-молодца…
Лихой ямщик, сидя на облучке, в сивой бараньей шапке, махнет кнутом по всем по трем, взглянет на своих седоков и на роскошную долину, облитую светом луны… Точно скатертью волшебною протянулись долина от востока и до запада!.. Взглянет он раз и два на эту картину, полную величавой красоты и скрытой от всех энергии жизни, и забьется в нем его чуткое сердце. Свистнет он соловьем-разбойником, молодецким посвистом, ударит слегка по притяжным буланым, и помчится лихая тройка, точно от сна встрепенется сокол поднебесный, а с нею и ямщик повеселеет, точно с морозом спор заведет, и затянет он звонким голосом песнь о том,
Как лебедка молодая,
Добра молодца любила;
А свекровь – старуха злая –
Ее журьбой изводила
Дорога сердцу русскому езда по зимнему пути не только тройкою, но и в парных санях и на рысаке в саночка-самокаточках. И в прежние годы наш Харьков конкурировал с Москвою лихой ездой по зимнему пути, а в крещенскую ярмарку на Екатеринославской улице с двух часов дня устраивалось ежедневно катанье. Все приезжавшее на ярмарку купечество шло на эту улицу-красавицу, и тротуары обеих сторон ее были полны гуляющей публикой. Купцы-старики ходили, а молодежь ездила на лихачах-извозчиках или на тройках, разубранных бубенцами и бляхами. У концов тротуаров, по обеим сторонам улицы, начиная от моста и кончая Дмитриевской церковью ехали медленно, гуськом, сани за санями. Купеческие женя в тысячных шубах вывозили своих дочерей, которые уже окончили свое образование. По средине улицы ходил полицейский надзор и строго наблюдал, чтобы никто не въезжал во внутрь круга и тем не нарушал стройности цепи катающихся. Во время таких катаний молодые купцы выбирали себе невест, а старики-отцы производили оценку шуб, лошадей и саней, соображая при этом, какое приданое можно получить за дочерью из той или другой семьи. И для многих девиц катанье на Екатеринославской улице было прямым путем к замужеству. Для некоторых достаточно было сделать два-три выезда на катанье, и девица уже была нареченной невестой приезжего купца. Впрочем, катанья эти были еще интересны и потому, что представляли собой выставку самых разнообразных и дорогих мехов, зимних экипажей и заводских лошадей. Соболь, куница, песец, илька, камчатский бобер, чернобурая лисица – постоянно сменяли друг друга, оспаривая друг у друга пальму первенства. Сани с медвежьей полостью, ореховые, ковровые, плетенные, четырех- и двухместные, кичась одни перед другими, спорили друг перед дружкой красотой и легкостью хода. Лошади лучших заводов, подобранные под масть и рост, завершали роскошь картины, и не мало было лошадей, пара которых стоила от двух до трех тысяч рублей. Но, конечно, венцом красоты и прелести картины – были красавицы-девицы, которые привлекали к себе взоры всех гуляющих. Среди этого букета цветов не блекших, а красневших от мороза, не раз привлекала своей красотой внимание гулявших и Мариамна Ломакина.
Любители быстрой езды во время катания высматривали друг друга и как бы делали вызов. Сделавши два-три круга и поровнявшись с какою-либо улицею, пересекавшей Екатеринославскую, любители быстрой езды поворачивали в сторону и освобождались от цепи. Побочными улицами выезжали они на Сумскую улицу и направлялись к Валковскому лесу, ныне известному под именем Сокольников. Тут лошадям давался полный ход, и душа седока наслаждалась широким простором быстрой езды, от которой дух замирал в груди и сердце трепетно билось. А мороз к вечеру уже начинал крепчать. Вздымалась снежная пыль от копыт. И лошади, почуяв ширь свободу, без устали летели все вперед и вперед.
За парными санями, запряженными парою тысячных лошадей, по направлению к Валковскому лесу, на легковых саночках, на лихом рысаке, ехал молодой купец Медведев.
Он старался не отставать от парных саней, в которых сидела семья богатого купца Кожевникова.
Медведев был неравнодушен к Надежде Петровне Кожевниковой и искал ее взаимности. Медведев то догонял, то перегонял сани с молодой Кожевниковой, которая, щуря глазки от морозного ветра и согревая свое лицо собольей муфтой, как будто не смотрела на того, кто преследовал ее. Но в то же время, когда Медведев поравнялся с парными санями, конь его метнулся в сторону, испугавшись внезапно налетевшей на них тройки лихача-извозчика Акима Баженова. В санях Акима сидели три богато одетые дамы, которые поравнявшись с Медведевым, громко крикнули ему свое приветствие:
- Миша! Вечером к нам, не забудьте!..
Стрелою помчался Аким, и голос любезных дам замер в морозном воздухе. Сани Кожевниковых повернули обратно к городу, а Медведев, не обратив внимания на приглашение дам, поехал вслед за санями. Пустивши своего рысака полной рысью, Медведев не заметил, как вышел из-за угла человек, которого он сбил с ног и переехал своими саночками. По тогдашнему обычаю за такие проступки ездок наказывался тем, что его рысака отбирали в собственность городской пожарной команды. С горьким разочарованием пришлось влюбленному молодцу встретить утро следующего дня. Тысячный рысак уже стоял в конюшне пожарного депо. Но что рысак в сравнении с красавицей-невестой?! Были бы деньги, а рысак будет!
Так рассуждал сам с собою Медведев и того же дня послал сваху в дом Кожевниковых с целью узнать, какого они мнения о его намерении! Но…
Знать, уж молодцу не венчаться с ней
И не звать ее ненаглядной своей
Сваха принесла неожиданно резкий ответ:
- Кланяйся своему жениху, – ответила Кожевникова, – и скажи ему, пусть он женится на той, которая ждет его к себе вечером!
Только теперь вспомнил жених о трех домах, приглашавших его к себе!
Но молодость – сама надежда. И потому Медведев скоро успокоился и вошел в обычную колею жизни, надеясь на время.
Крещенская ярмарка подвигалась к концу и становилась весьма многолюдною. Приезд купцов с юга Росси за покупкою товара, а также московских купцов и фабрикантов, предлагавших товар, был неожиданно велик. Торговали все весьма бойко, и платежи были особенно исправны. Богатые городские купцы делали частые вечеринки и даже балы, приглашая к себе москвичей и купцов городов юга России, конечно не с одной целью укрепить за собой кредит и сбыт товара на будущее время, но и с целью посватать своих дочерей, которых каждый день вывозили на катанье. Мариамна Ломакина уже была на очереди. Один московский фабрикант уже сделал предложение ее отцу, как и всегда, минуя невесту, и от отца получил уже полное согласие. Ломакин назначил за свою дочерью пятьдесят тысяч рублей, или, как тогда выражались пятьдесят мешков серебра. Мариамне и Адольфу нужно было спешить что-нибудь предпринимать, не откладывая дела в долгий ящик. Афросинья не теряла времени и приискивала способы, которыми можно бы было воспользоваться, чтобы привести в исполнение задуманное предприятие, хотя уйти со двора, кругом запертого и охраняемого дворниками, кучерами и рабочими оптового склада товаров, было не так легко, как, быть может, казалось Марьяше. Но талантливой белгородке все было возможно. Адольф, не показываясь в городе, давно уже не подготовил все необходимое для отъезда своей невесты. Им был привезен их Москвы теплый возок со всевозможными приспособлениями для продолжительного зимнего пути. По первому требованию, в какое бы ни было время, Аким Баженов должен был поставить на тридцативерстном расстоянии все свои шесть троек и притом подать тройку к указанному ему месту. Затем, на протяжении четырехсотверстного расстояния по окольному и ближайшему пути были расставлены тройки из имения Адольфа. Все было приспособлено для быстрой езды, без потери времени и долгих остановок.
Двор Ломакиных помещался на Конторской улице, где в настоящее время находится фабрика Кромского. Двор был не столько широк по улице, сколько длинен в глубину и заднею своей частью выходил к реке Лопани. На этой задней стороне двора между звеньев высокого забора, стояла семейная баня Ломакиных, без которой в то время ни один богатый дом не обходился. А у самой бани в заборе была маленькая форточка служившая выходом на реку для снабжения бани водою.
Несколько вдали, на противоположном берегу реки, в вечер, назначенный для побега, стояла тройка Акима. Мариамна со своей няней Афросиньей в этот вечер должна была быть в бане, почему баня была натоплена и ожидала ее в урочный час.
Одевшись тепло и взявши с собою только маленькую шкатулку с гребнем и шпильками, Мариамна вместе с няней пошла в баню. Двор был пуст, прислуга вся ужинала в большой людской кухне, и они прошли по двору никем не замеченные. Не входя в баню, они отперли калитку и с возвышенного берега реки спустились на лед. Но тут с Мариамной случился небольшой казус. Непривычная ходить по скользкому пути, она поскользнулась, упала и сползла по откосу берега на лед реки, уронивши из рук шкатулку, из которой разбросались вещи по льду.
Афросинья в испуге поддержала Мариамну и начала собирать вещи, выпавшие из шкатулки. Но двух больших булавок и черепахового гребня не было. Время было дорого для того, чтобы расходовать его на розыски вещей, и потому они поспешили к тройке, решив, что гребень и булавки упали в прорубь, которая была у самых ног упавшей Мариамны.
Еще две-три минуты, и они были на другом берегу реки. Аким, как галантный кавалер, посадил их в возок и тщательно окутал их ноги одеялом на лисьем меху.
Все было готово, и возок двинулся в путь.
Для Акима было пустяком довезти быстро и благополучно Мариамну к месту назначения. Но на свое дело смотрел Баженов как артист смотрит на роль, данную ему для выполнения. Он был занят мыслью не только довезти до места красную девицу, но и скрыть следы своего пути, запутать колеи возка и след лошадей,
Чтобы девицу не нашли, да не отняли,
Чтобы красную да в полон не взяли.
И Аким быстро поехал прямо, потом круто повернул в обратный путь и, проехавши некоторое расстояние, опять крутым поворотом свернул в сторону, промчался по глухому переулку, постоял у чьего-то подъезда и, повернувши назад, быстро выехал в поле, расставшись с городом. След его возка был так сбит и спутан, что следя за колеей полозьев, можно было думать, будто несколько троечников и одиночек проехали туда и обратно о разным направлениям. И несмотря на искусственное удлинение пути он все же за два часа времени был уже в тридцати верстах от города и делал новую упряжку стоявшей там наготове тройки.
Адольф встретил Мариамну глубоким поклоном и только позволил себе поцеловать ее руку. Предложивши ей чашку чаю, который уже был приготовлен в особой комнате постоялого двора, и получивши согласие от Мариамны ехать дальше он усадил ее в возок и поезд тронулся в путь.
Как весьма типичный случай, который характеризует взгляд того времени на бедный люд, я нахожу не лишним привести факт из служебной деятельности полицейских чинов того времени. Факт этот не может быть причислен к единичным случаям и потому является обобщающим нравы и обычаи того времени.
В настоящее время, сравнительно говоря, в Харькове достаточно развита благотворительность: церковно-приходские попечительства о бедных, ночлежные дома, приюты для детей и проч. и проч. Достаточно подтверждают сказанною мною. То же нужно сказать и о врачебных и санитарных условиях, развивавшихся в Харькове с шестидесятых годов. Городские лечебницы и расширение земского богоугодного заведения (Сабурова дача), детские больницы и, наконец, целый ряд частных лечебниц и санаторий убеждают нас в том, что стремление к улучшению общественной жизни и к развитию общего блага в наши дни заметно прогрессирует.
В старые годы ничего этого не было. В городе не было ни одной городской больницы, и только Сабурова дача давала приют страждущим. Но далеко не все заболевшие могли найти приют в этом учреждении. Многие лежали по квартирам и лечились кое-чем, не получая медицинской помощи. Что же касается бедноты, то, не находя для себя общественных учреждений, она удовлетворяла свои нужды кой-как, от руки не оскудевавшей милостыни. Так жили люди изо дня в день, из года в год, и никому не приходило в голову поднять вопрос об открытии и учреждении какого-либо общества с благотворительной целью. А между тем в то время, как и теперь, временами свирепствовали эпидемии тифа, лихорадки, скарлатины и прочих недугов. Каждую осень бедный люд платил горькую дань всем этим недугам.
И вот в один из таких злосчастных периодов, горничная Даша, лет шестнадцати, служившая в семействе квартального Стуколкина, заболела лихорадкой. Тогда, как и теперь, не любили больной прислуги и даже болезнь ее ставили ей в вину. Теперь заболевшую прислугу спешат отправить в больницу, где, конечно, и надзор лучший и больше средств к лечению. В те годы, как я уже сказал, больного приютить было некуда. Заболевшая прислуга на первых днях своей болезни кой-как ютилась у хозяев, где она жила, но потом, если болезнь затягивалась, ее, не церемонясь, выгоняли на все четыре стороны.
Лихорадка, захватившая в свои руки горничную Дашу, уже более двух месяцев держала ее в своих руках. Общий врач всего чиновного люда и мелкого купечества в то время был доктор Рейпольский. Он лечил Дашу от лихорадки настоем из листьев сирени. Но лихорадка не уступала лечению, и Даша уже прибегала к гаданию и симпатическим средствам, из которых носить на груди крыло летучей мыши зашитым в мешочек считалось самым сильным средством от лихорадки. Но и это средство не помогало. Лихорадка делала свое дело, и Даша исхудала и побледнела, потерявши последние силы.
Но и Стуколкиным наскучило иметь больную прислугу, которую даже искусство Рейпольского не могло излечить от лихорадки.
Однажды какой-то палестинский монах, прибывший в Харьков за сбором для монастыря, был в семье Стуколкина и увидал болящую Дашу.
- Что эта девица, вижу, страдает? – спросил он у сидевших и угощавших его хозяев.
- Да вот, как видите! – отвечала хозяйка. – Третий месяц лихорадка ее мучает. И ей горе, и нам беда без прислуги.
- А у нас в Палестине лихорадку крапивой лечат, – сказал монах.
- Как так крапивой?
- Да видите ли, жаль, что теперь уже зима началась, у нас нарвут ее пучок – два, да и высекут ею хорошенько больного. И лихорадку как рукой снимет!..
- Побеседовал палестинский монах и ушел. А о целебном свойстве крапивы слышал и сам Стуколкин.
Не задаваясь вопросом, растет ли в Палестине крапива, квартальный остановил свое внимание на том, что ее теперь уже нельзя достать до весны. Между тем, было бы весьма желательно вылечить Дашу от лихорадки.
Подумавши вельми-зело, сердобольный квартальный пришел к убеждению, что крапиву можно заменить розгами, так как секрет лечения тут заключается в том, чтобы произвести усиленное отвлечение крови к одному месту. Остановившись на таком выводе в своих рассуждениях, Стуколкин однажды, когда Даша была охвачена сильным пароксизмом лихорадки, не говоря никому ни слова, повел больную в полицейский двор и в сарае с помощью двух пожарных солдат высек ее по всем правилам искусства. Даша, после приема такого лекарства и в такой дозе, даже не могла встать с места. Поднялся общий протест против такого лечения, и даже полицмейстер Серебряков сурово посмотрел на нового врачевателя лихорадки в мундире квартального надзирателя.
- Эх ты, остолоп, медный лоб! – сердито сказал ему Серебряков. – Тебя бы, дубину, полечить этим средством!
Но каково же было всех удивление, когда Даша, оправившись дня через три после этого лекарства, излечилась навсегда от лихорадки, которая ее оставила!
Стуколкин торжествовал, а весть об излечении лихорадки посредством розог быстро распространилась по городу, и любители приносить пользу ближнему начали употреблять такое средство, благо в те годы всякий имел право сечь другого, если был сам застрахован от розог гильдией, чином или дворянством. Любовь к применению этого средства от лихорадки настолько развивалась среди обывателей, что за всякую неисправность прислуги отсылали ее в полицию с просьбой «полечить ее от лихорадки».
Но как ни радикально было лечение розгами и как ни применял его с уменье Стуколкин по просьбе обывателей, а все же тут сказалось на всякого мудреца довольно простоты. Однажды к нему была препровождена женщина с просьбой полечить ее от лихорадки. Стуколкин применил к ней лечение в полной силе. Но дело окончилась весьма плохо. Женщина, готовясь быть матерью и принявши непомерную дозу лекарства, преждевременно родила и умерла от сильной потери крови. Ретивый врач-квартальный был уволен от должности, но лечение лихорадки розгами долго еще сохраняло за собою авторитетность…[13]
Адольф, далеко опережая возок Мариамны, ехал в открытых санях, встречая ее каждый раз при новой перемене лошадей. Мариамну все время сопровождали четыре верховых лезгина, что очень нравилось ей и интересовало ее. Она все время была в веселом настроении духа. Картина ухода ее из дома родителей, ее быстрый побег через реку, заботы Афросиньи и даже падение ее с бугорка крутого берега реки и хлопоты Акима о тепле ее ног – все для нее было так ново, так полно таинственности и так напоминало ей сцены из прочитанных ею романов, что она радостно посматривала в зеркальные окна своего возка, постоянно обращаясь своей няне, прося ее взглянуть то на даль уходившей от нее дороги, то на березу, покрытую серебристым инеем мороза, то на хатенку, стоявшую в стороне от дороги. В окне убогой хатки, точно две лампады, горел огонек в двух окошечках. И думалось ей, что в ней живут добрые люди и мир и любовь вечно живут с ними. А луна щедрою рукою разливала свой причудливо-таинственный свет по широкому раздолью бесконечной степи. И по гладко-снежной пелене тысячами искр морозной пыли блестела степь беспредельная… Но не то было на душе у Афросиньи. Она всю дорогу была молчалива, часто вздыхала, осеняя себя крестным знамением, и часто вспоминала об утерянном гребне.
- И что ты, милая, о гребне хлопочешь? – успокаивала ее Мариамна. – Он не дорого стоит, и Адольф мне новый купит.
Но не один гребень навевал на Афросинью тяжелые думы, и то, что Мариамна упала, и то, что она скатилась вниз по наклонной плоскости, и даже долгое шатанье Акима по улицам города – все это она приняла за плохое предзнаменование и не могла успокоиться. Она верила в судьбу и в предзнаменования. Верила она, что:
Есть что-то в жизни тайное,
Стихийное, случайное…
Хорошо кормленные заводские лошади мчали возок по пушистой санной дороге, унося Мариамну все дальше и дальше от ее родного города. Наконец вдали показалось большое село, на окраинах которого в избах крестьян блестели огоньки, точно Ивановы червячки на темных листьях лещины. А посреди села высился к небу своими куполами деревенский храм. Был поздний вечер, и Мариамна уже не первую ночь встречала в пути, одна, под слабой защитой Афросиньи. Она опустила стекло дверцы возка и с любопытством ребенка смотрела на село, которое все яснее и яснее вырисовывалось на горизонте. В это время лезгин на коне подъехал к ее окну, чтобы спросить, не нужна ли ей в чем-либо его услуга. Мариамна вдыхала в свою молодую грудь морозный воздух наступавшей ночи.
- Чье это село? – спросила она у лезгина.
- Это село Свободино барона Остенблют! – ответил лезгин с акцентом восточного человека.
Мариамна ближе подвинулась к окну и пристально смотрела в даль на широко раскинувшееся перед нею село Свободино. В сельском храме ударили в колокол к вечерне, и унылый звук деревенского колокола разился по морозному воздуху и струею ветра донесся до слуха Мариамны.
Вечерний звон, вечерний звон,
Как много дум наводит он…
Она перекрестилась, и в первый раз глубокая дума легла на ее чело. Ей вспомнился и отчий дом, и ласки матери, и слова любви и привета сурового отца ее, их испуг после ее ухода, и наконец ее будущее, которое вот-вот должно выразиться чем-то хорошим, чем-то похожим на полное счастье… Мариамна так самоотвержена, так наглядно доказала Адольфу свою любовь. Почти одинокая, в глуши, среди морозной лунной ночи стояла она перед ним, от которого в те минуты зависела и честь ее, и жизнь… Но как джентльмен и аристократ, он только позволял себе с глубоким уважением поцеловать ее руку. И это же? В праве ли она сомневаться в нем и бояться за свое счастье?
Она глубоко вздохнула и, опустивши голову на грудь, тихо прилегла к бархатной стенке возка.
- Что с тобой, моя голубка? – спросила ее Афросинья и перекрестилась, услышав вновь призывный к молитве звон.
Мариамна как ребенок, залилась слезами и, обнявши свою няню, упала на ее грудь. А звуки колокола все чаще и чаще доносились до ее слуха, мерно рассекая морозный воздух спустившейся на землю ночи…
- Ах, Фросюшка, няня моя дорогая! – обнимая Афросинью, говорила Мариамна, заливаясь горючими слезами. – Помолись, голубушка, обо мне, а я буду плакать. Так отрадно, так хорошо плакать, и я хочу плакать!..
- Да о чем же милая? – недоумевая спрашивала ее Афросинья.
- Ах, обо всем, обо всем, дорогая! Не мешай же мне, дай мне выплакаться!..
Между тем Свободино становилось все ближе и ближе. Сани Адольфа, опередивши возок, уже скрылись в узкой улице села. Он подъехал к паперти церкви, встал из саней и вошел в храм, в котором уже два дня как было все готово для венчания.
Вскоре подъехала в возке Мариамна, которую совместно с священником, встретил Адольф и ввел в церковь. А тем временем конвоировавший лезгин поскакал в усадьбу оповестить старого барина о том, что приехали его сын со своей невестой и в храме началось венчание.
В те годы не было банков, куда бы можно было скромному труженику положить на хранение сбереженные им рубли. Не было и кредита для тех, которые нуждались в нем для расширения своего торгового дела или для оборота вообще, дающего нередко хороший заработок в продолжение нескольких часов. Но при всех насущных и неотложных потребностях жизни, если нет настоящего жизненного материала, то взамен его является суррогат, который, как известно, не всегда полезен, но почти всегда вреден. Во время голода вместо ржаной муки употребляют древесную кору, хотя такая пища далеко нежелательна. А вместо кредитных учреждений в те годы в Харькове были богатые торговцы, которые давали деньги в кредит, но на оригинальных условиях, характеризующих нужды промышленников и алчных заимодавцев того времени.
Из числа таких выдающихся заимодавцев был богатый купец Игольников.[14] Он торговал в «панском» ряду красным товаром дешевой расценки, который преимущественно шел для простонародья через разносчиков, ходивших и ездивших с товаром по селам и деревням. Но так как ходкая продажа офенями[15] товара по деревням и селам была в тесной зависимости от урожая хлеба, то Игольникову нередко приходилось отпускать товар коробейникам в кредит, а также и отсрочивать им долг за товар, уже купленный у него, но не проданный по случаю застоя спроса. Как практический торговец, он не отказывал своим покупателям в кредите, но соглашался на отсрочку или на новый кредит при весьма своеобразных и оригинальных условиях. Он имел обыкновение забирать у своей жены, а также у дочерей своих старые платья и разные принадлежности туалета. Хранил он все эти предметы в особом шкафу в своем кабинете. Также хранил он старые экипажи, изломанные или вышедшие из моды. Если кто-либо приходил к нему с просьбой деть ему взаймы под вексель денег, отпустить в кредит товару или отсрочить платеж по векселю, он соглашался на такие предложения и просьбы и в свою очередь предлагал своему кредитору или просителю, чтобы тот купил у него старое женино платье или же старые дрожки, сани, тарантас и даже чепец, который жена уже перестала носить. И такие условия всегда были conditio sine qua non[16]. И стесненный нуждою кредитор должен был соглашаться на условия Игольникова и покупать у него что-либо из предложенных ему предметов.
- Вот что я тебе скажу на все твои слова! – говорил офене или мелкому базарному торговцу Игольников. – Ты у меня купи дрожки и я тебе отсрочу должок. Пойдем, я тебе покажу.
- Да на что же мне дрожки? – с удивлением спрашивал его офеня.
- Как на что?.. А не купишь дрожек, так купи у меня женино платье с чепцом.
- Да платье мне не нужно, а чепец и подавно.
- Да ты, я вижу, глупый человек! Ты посмотри, какой чепец! Жена в нем у губернатора на балу была, а ты не хочешь покупать!
- Да куда же я с ним денусь, с чепцом-то вашим?
- Как куда? Да ты только в деревне покажи его поповне или дьяконихе, так они у тебя его с руками оторвут. Ты на нем деньги наживешь!
- Да пусть уж кто другой наживает на чепце деньги, а меня уж увольте!..
- Ну, так вот же что! Ты купи у меня бурнус моей дочери. Ты понимаешь – моей дочери!
- И на что мне бурнус? – отнекивается истомленный нравственною пыткою офеня.
- Ну, пойдем, дорожки покажу.
- И на что мне дорожки?
- А не хочешь ничего у меня купить, так пошел вон, и завтра я тебя в кутузку посажу и весь товар отниму.
Ничего не оставалось делать офене, как идти в сарай с Игольниковым и покупать у него дрожки.
- Вот это дрожки? – говорил офеня, осматривая кругом какие-то развалины. – Дрожки совсем развалились, а вы их за экипаж продаете!
- Ты глупый человек! Ты посмотри, какие они были, да чьей работы! А цена им – и говорить нечего – даром отдаю!
- Да за сколько же вы их отдаете?
- Совсем задаром! Возьми за триста рублей! Я деньги подожду.
Начинался договор, который нередко переходил в крупный разговор. Но всегда кончалось тем, что офеня сам впрягался в дрожки и увозил их со двора, а триста рублей приписывались к сумме векселя.
Да не удивляется читатель, что офеня сам впрягался в дорожки и увозил их со двора. Дело в том, что были случаи, когда, по окончании сделки и вместо нее получал внушительные дерзости с угрозам и бранью.
Другого типа заимодавец того времени был С.К. Костюрин.[17] Он торговал вином и сам пил его каждый день как воду, встречая и провожая солнце с бутылкою лиссабонского в руках. Его резиденция была в погребе, помещавшемся более пятидесяти лет в доме Карпова, ныне – Питры[18]. В погребе была комната, в которой всегда сидел Костюрин, и называлась она «Капернаумом». И вот в этот-то «Капернаум», кто имел нужду в деньгах, спускался по крутой лестнице, чтобы увидеть всегда там пребывавшего Костюрина.
Какой-то мудрец сказал, что предпразднество всегда приятней торжества. Вероятно, этому мудрецу не раз в жизни пришлось проверять это изречение на самом себе. Но и Мариамна готова была подтвердить собственным опытом изречение мудреца. Был свадебный бал, и баронесса на нем блистала звездой первой величины. Но и после бала пир продолжался более недели, пока, наконец, и хозяева и гости устали, пресытились и изнемогли. Все разъехались по своим имениям. Усадьба барона начала пустеть, и обширный двор, еще так недавно многолюдный и полный людского говора, как будто приуныл, заскучал и призадумался. И Мариамна, отдохнув от приема гостей, от обедов, вечеров и катаний на тройках, начинала скучать. Деревенская жизнь с ее однообразием и тишиной ее не удовлетворяла. Она искала чего-то нового, еще не испытанного ею. Она хотела видеть свет.
Душа ее стремилась к жизни новой
И сердце жаждало тревог…
(илл. 114) А между тем время шло, и срок отпуска Адольфа приближался. Она это знала и, не говоря ничего Адольфу, в молчании ожидала, что он сам объявить ей день их отъезда в столицу. И она не ошибалась. День отъезда в Петербург был назначен, и быстро начались сборы в дорогу. Старик адмирал тоже перешил оставить деревню и ехать в столицу вместе с детьми, чтобы жить с ними вместе и не расставаться более.
У Мариамны было заветное желание – примириться с родными и повидаться со своей матерью, которую она любила горячо.
Ни муж, ни отец не противоречили ее желанию, и даже для этой цели путь был назначен на Харьков, несмотря на несколько верст кругу.
Афросинья была оставлена в имении в качестве смотрительницы за домом. По ее указаниям были отправлены люди для переговоров в дом Ломакиных. Но на вопрос, позволит ли отец приехать Мариамне к нему для свидания, – последовал суровый ответ:
- Какая дочь? Ответил Ломакин. У меня дочери нет, а чужих я не принимаю!..
Давши такой ответ, Ломакин к вечеру того же дня приказал подать себе тройку и уехал из города. А мать баронессы, воспользовавшись его отсутствием и не дожидаясь приезда дочери, сама принята с искренним радушием как дочерью, так и ее мужем совместно с старым бароном. Погостивши у матери более недели, баронесса выехала в Петербург.
На другой день после отъезда баронессы рабочий Ломакина начал собираться в отъезд, о чем заявил сыну Ломакина.
- Куда же ты едешь? – спросил его молодой хозяин.
- Да нешто вы не знаете? – с удивлением спросил его рабочий. Батюшка ваш, отъезжая из города, приказал мне оповестить его, когда выедет из города сестрица ваша.
- Значит, ты знаешь, куда отец уехал?
- Да как же не знать? Он уехал в свой лес, за тридцать верст отсюда. Чай, думаю, он там у лесника, сидя в землянке, занудился. Ну что там? Известное дело – волки да собаки лают – вот и все!..
Молодой Ломакин сдвинул плечами и отошел от словоохотливого рабочего, который, собравшись в дорогу, на санях в одну лошадь, выехал в лес в качестве курьера.
Первые три года своего замужества Мариамна каждое лето ездила в свое имение и каждый раз останавливалась в Харькове, посвящая несколько дней о примирении с отцом. Но всегда успевая в первом, она, несмотря на старания матери, не могла иметь успеха во втором своем желании: отец не хотел ее видеть, и каждый раз с ее приездом в Харьков он уезжал из города, как будто им вдвоем в Харькове не было места. Даже когда баронесса Мариамна привезла своего первенца, Гришу, Ломакин не пожелал видеть ни дочери, ни внука и опять уехал из города. Прошло более пяти лет. Молодой барон Григорий фон-Остенблют уже стал на ноги и был весьма интересным мальчиком.
Однажды баронессе было подано письмо, в котором мать ее уведомляла ее, что отец ее лежит больным в безнадежном положении. Мариамна немедленно выехала в Харьков с тою же заветною целью – чтобы получить прощение от умирающего отца. Она застала отца в последний день его жизни. Но и в эти тяжелые минуты жизни железная воля отца осталась непреклонною, и он умер, не желая принять дочь свою, решившуюся своим побегом осрамить его седую голову…
Афросинья все эти неприятности Мариамны с отцом приписала потере ею гребня…
Я обещал познакомить читателя с заимодавцем, который давал крупные суммы под залог недвижимого имения, и упомянул вскользь о С.К. Костюрине, постоянно пребывавшем в своем погребе, в комнате, прозванной «Капернаумом».
Условия, при которых можно было взять взаймы у него денег, тоже были своеобразны, хотя совсем не походили на условия Игольникова. Первое, что должен был сделать каждый кредитор, – это купить у Костюрина бутылку лиссабонского и выпить с ним, хотя он никогда ничего не пил. А затем, когда бутылка была выпита, Костюрин предлагал вынуть кончик носового платка и если кончик платка вынимался с узелком, то вторая бутылка становилась на стол тем, кто вынимал узелок. Но как-то всегда случалось так, что узелок доставался пришедшему занять денег.
- Я не пью! – говорил кредитор, отвечая на предложение купить бутылку вина.
- А не пьешь – ступай у чорту, и денег не дам! – отвечал ему Костюрин.
- Нечего было делать, – нужно было покупать бутылку лиссабонского, а затем другую и третью…
Посещение «Капернаума» оканчивалось опьянением просителя, и условия займа откладывались до другого дня. На другой день начинались с утра переговоры о займе денег с той же бутылки лиссабонского и оканчивались таким же опьянением.
И еще день, и еще, и так нередко проходили целые недели в выпивании вина, а окончания договора о займе все еще не было.
А затем начинались переговоры о займе денег и совершении закладной.
По совершении в гражданской палате закладной, она в том же «Капернауме» обмывалась совместно с секретарем и приходо-расходчиком палаты, под председательством Костюрина, который всегда сидел в большой куньей шубе нараспашку, в собольей шапке и курил трубку вакштаба на очень длинном чубуке. Так проходили дни, а за днями недели, и наконец делался денежный расчет по закладной с вычетом условных процентов. При этом, судя по сумме займа, кредитору не доплачивалось 50 и даже 100 рублей.
- Ну как же 100 рублей-то не хватает? – с неудовольствием говорил кредитор, считая деньги.
- А ты умирать будешь или нет? – спрашивал его Костюрин.
- Буду. Ну что же из этого?
- А то, что на кладбище церковь строится, так ты думаешь, что всю церковь я на свой счет построю? Эк, мудрец явился с чугунным лбом. Вот с таких-то, как ты, я и собираю на построение, – понимаешь?
- Да все же… как же это так?
- А так, что если разговаривать со мною будешь, так я совсем денег не дам. Вот ты со мной тогда и поговоришь до поту. Ведь закладная уже вошла в свою силу!
В других случаях не доплачивались десятки рублей в пользу приюта, в пользу училища, в пользу других нужд города, но всегда вычет был бесповоротный.
Но этим не оканчивалась сделка.
Хотя редко, но иногда Костюрин скучал один в своем «Капернауме». В такие часы он посылал то за тем, то за другим кредитором, предлагая ему поставить одну и другую бутылку лиссабонского. И горе тому, кто осмеливался не отозваться на приглашение: тот немедленно попадал в опалу, и в день срока уплаты займа закладная подавалась ко взысканию, и заложенное имущество доставалось в пользу любителя лиссабонского.
«Капернаум» – это без преувеличения можно было назвать школою пьянства, и не мало порядочных людей были споены в нем и преждевременно уложены в могилу. Не мало людей из «Капернаума» пошло по миру, оставив семью свою без куска хлеба. Но, впрочем, спешу сказать, что Костюрин не раз был выбираем городским головою, почти на свой счет выстроил храм на городском кладбище, построил дом для уездного училища и был известен как общественный благотворитель.
В Харькове в те годы был выдающийся богач, откупщик Кузин.[19] Можно без преувеличения сказать, что благодаря его участию к нуждам населения выстроена более чем половина городских домов.
Откупщик – и благодетель!.. Не правда ли, как далеки эти два человека один от другого? Первый – спаивая народ дешевой водкой, наживает большие капиталы и думает только о своем благе, второй – забывая о себе, радеет о благе своего ближнего. Но les extremites se touchent[20], говорят французы, и в характере Кузина, действительно, гармонично сливались в одно целое эти две крайности. Как один из выдающихся откупщиков того времени, Кузин не переставал расширять свое откупное дело, захватывая в свои руки не одну Харьковскую губернию, но и соединение с нею. Но, обладая громадным состоянием, он дарил большими кушами деньги для различных благотворительных учреждений. А выдающимся благодеянием с его стороны была помощь, постоянно им оказываемая обывателям города на постройку домов и на приобретение дворовых мест. Особенно он был внимателен к бедным труженикам, которые отличались трезвою жизнью. Нередко сам лично или же через посредство других он входил с бедняком, сапожником или портным, в переговоры и предлагал ему вместо деревянной хатки, в которой жил бедняк, построить большой каменных двухэтажный дом, на постройку которого давал деньги на выплатку и за самые маленькие проценты. А были случаи, что он давал деньги на постройку дома совсем без процентов. Когда выстраивался дом на деньги, данные Кузиным, хозяин дома, как и прежде, пользовался в нем квартирою для себя и для своего заведения, а получаемый доход с дома, весь или по частям, согласно условию, поступал в уплату капитала, выданного Кузиным на постройку. Дом же с местом Кузин отдавал правительству под залог откупов. Такой оборот давал Кузину возможность представить казне значительное количество недвижимости в обеспечении правильной уплаты следуемых казне денег за откупа. Но в то же время это представляло собою для хозяина дома риск, так как дом, попавший в залог по откупам, мог всегда быть продан с аукциона, если бы Кузин не «оправдал себя» перед казною. Все это могло быть, но этого в продолжение всей жизни старика Кузина не случилось ни с одним домом. И даже после его смерти многие дома, бывшие в залоге по откупам и не вышедшие в срок из залогов, почтенными наследниками его были «оправданы» и возвращены хозяевам чистыми, то есть свободными от залогов.
На Сумской улице, где в настоящее время стоит большой дом Хариных, была деревянная, в три окошечка, лачужка, на воротах которой красовалась вывеска, гласившая: «Сапожник, сапоги шьет, Пузанков». Это был трезвый и трудолюбивый ремесленник, на руках которого были жена, трое детей и старуха-мать, двенадцати лет лежавшая недвижимо, разбитая параличом. Старик Кузин сам пришел к Пузанкову и заказал ему пару сапог. Затем, когда сапоги были сшиты, в назначенный срок он пришел за ними, померил и уплатил ему деньги.
- Послушай, добрый человек, – обратился к нему Кузин, – почему ты не выстроишь себе дом? Место у тебя хорошее, и дом будет на нем доходный!
- Да что же это вы, с богатства что ли, вздумали меня на посмех поднимать? – обиженным тоном возразил Пузанков. – Что же я на эти вот два с полтиной, что за пару сапог получил, дом-то выстрою?
- Постой, постой, любезный! Ты знаешь, кто тебе о доме-то говорит? – спросил обиженного сапожника Кузин.
- Да на что мне знать-то? Пришел господин, заказал мне пару сапог, я ему сшил эту пару, а он мне заплатил за них следуемые два с полтиной денег, – вот и все.
- Ну так вот же что я тебе скажу, добрый человек! – сказал Кузин. – Ты приходи сегодня часов в шесть вечера в мою контору и спроси там меня самого – Кузина, я тебя ожидать буду. Мы там поговорим о деле, да, бог даст, и дом выстроим!..
Пузанков не ожидал, что ему пришлось такого миллионера принимать у себя в хатенке и потому поблагодарил Кузина за предложение и проводил его с почетом.
Таким путем Пузанков выстроил себе дом, а за ним на таких же условиях выстроили и другие дома, не имея у себя готового капитала. Так построены все дома Куликовых, ныне принадлежащие земельному банку. Так выстроился дом Дудукалова на Екатеринославской улице[21]. Почти вся Рыбная улица, Николаевская площадь и Конторская улица[22] были обстроены таким путем, и не было в Харькове человека, который бы через Кузина потерял свое состояние и пошел по миру нищим.
Харьков издавна был известен по торговле как транзитный пункт, как цистерна, из которой весь юг России брал различный товар для своих нужд и сбывал сырье для переработки его на московских заводах и фабриках. Харьков всего имел четыре ярмарки и особенно славился Троицкой ярмаркой, имевшей большой сбыт шерсти, и Крещенской ярмаркой[23], считавшейся по обороту капиталов второй после Нижегородской. Но, несмотря на все это, в Харькове в то время, кроме конторы Государственного банка, не было ни одного финансового учреждения. Взять взаймы деньги для оборота или пристроить деньги для роста было очень трудно, не рискуя как в первом, так и во втором случае попасться в ежовые рукавицы эксплуататоров и мироедских дел мастеров. Нужда в таких учреждениях сама собою породила не мало суррогатов банков и ломбардов в лице заимодавцев и ростовщиков. Один из таких маленьких банкиров был купец Шерыкин, который, спешу сказать, вел обширную торговлю колониальным товаром и был очень честный человек. Так как торговля его шла бойко и он сам по себе был человек весьма порядочный, то обыватели города его любили, и он пользовался безграничным доверием. Особенно небогатый люд из ремесленников смотрел на него как на человека, который не захочет обидеть труженика, почему несли ему каждый день излишки своих заработков, прося взять их себе в оборот торговли за небольшие проценты. Наплыв денег по временам бывал так велик, что Шерыкин нередко отказывался брать их. В таких случаях ему кланялись в ноги и слезно просили, чтобы он взял их деньги и не обижал их отказом. Такие явления наглядно доказывали, что время открытия различных финансовых учреждений уже настало, но косная неподвижность и отвращение к новшествам были слишком велики, и потому никто не заботился об упорядочении этого дела.
Импровизированный банк Шерыкина с каждым годом приобретал все большее число вкладчиков, которые преимущественно состояли из постоянных обывателей города. Содержатели постоялых дворов, швеи, вышивальщицы, кружевницы и даже женщины, жившие поденным трудом, питаясь чуть не впроголодь ради того, чтобы отложить от дневного заработка копейку, несли свои деньги к Шерыкину, веря безгранично, что эти деньги будут лучше сохранены, чем дома. Но не брезгали шерыкинским банком и весьма богатые люди, которые крупные суммы вносили ему для роста и оборота.
Для характеристики того времени надо сказать, что в те годы легко можно было нажить капитал и сделаться выдающимся богачом. Вследствие медленного и каждый раз рискованного сообщения с Москвою и Петербургом, как с центрами заводской и фабричной промышленности, купец того времени должен был хлопотать о том, чтобы у него были большие запасы различного товара первой потребности. Вследствие порчи дорог весною и осенью и нередко по случаю гнилой зимы в городе чувствовался недостаток то в том, то в другом товаре. А в то же время на этот товар возникало требование и из других городов России, от купцов, торговавших в розницу. Купец, имевший такие товары в запасе, становился всевластным монополистом и, налагая высокую цену на товар, нередко за несколько дней приобретал десятки тысяч рублей.
Но насколько было заманчиво положение купца того времени, настолько же (если не больше) оно было опасно, грозы ему банкротством и бесповоротною гибелью. Если в настоящее время причину банкротства нужно по большей части искать в предумышленном деянии коммерсанта, то в те годы нередко вследствие несовершенства путей сообщения весьма честный и умный коммерсант в один день терпел убытки на несколько десятков тысяч рублей и из богача становился бедняком. Торговец, отправлявший постоянно целыми транспортами товар в Москву и Петербург, а также в Таганрог и Одессу, – пшеницу, шерсть, ячмень, кожи, муку, – был в полной зависимости от путей сообщения и от погоды. Беспрерывные дожди или порча зимнего пути несвоевременным таянием снега покрывали дорогу глубокими зажорами[24], почему товар доставлялся на место с большим опозданием и подмокшим. И купец нередко сразу терял все свое достояние и становился бедняком. Такому неожиданному краху подвергся и Шерыкин. Бывши богачом еще вчера и пользуясь безграничным доверием не только в г. Харькове, но и в столицах, он потерял все на громадном транспорте пшеницы в Одессу, подмоченной в дороге вследствие гнилой зимы.
Его торговля, а с нею и его импровизированный банк, потерпели сильный крах, и те, чьи деньги были у него на процентах, сразу потеряли все. Плач и вопль женщин, девушек, больных старух и даже детей, взрыв протеста и злобы рабочих и ремесленников не смолкали с утра до ночи у ворот дома Шерыкина, и Рыбная улица, где жил он, была в продолжении многих запружена бедным людом. Шерыкин чуть ли не с того же дня был взят в острог без права сказать за себя слово. И из людей состоятельных многие обнищали вместе с ним. Но все же я спешу сказать, что мало было таких добрых и честных людей, каким был Шерыкин. И потому нужно поражаться тому равнодушие, с каким отнеслись к нему все его сотоварищи и граждане города.
Как я уже сказал, в Харькове было четыре ярмарки, из которых Крещенская была особенно богата оборотами. Но наша южная зима нередко изменяла людям. Вслед за глубоким снегом шла сильная оттепель с продолжительными дождями и с большой распутицей. В эти несчастные годы гнилой зимы товар на Крещенскую ярмарку запаздывал, и как торговцы, так и покупатели выходили из терпения и верхом приезжали в Харькова, оставляя свои сани с багажом на произвол судьбы. Зажоры доходили на столбовых дорогах до таких размеров, что в них все туловище лошади пряталось и только голова с шеей оставалась не залитыми водою. Сани, так называемые розвальни, на которых обыкновенно возили товар, погружались в эти зажоры в уровень с товаром, который состоял из кип сукна, красного и колониального товара, а также из наскоро сбитых ящиков с бархатом и шелковыми материями. Не трудно представить себе, в каком виде получался весь этот подмоченный товар и на какую громадную сумму были потери его.
Но несмотря на такие тяжелые уроки, несмотря на такие ужасные потери, никому не приходило в голову обратить внимание на способ транспорта, на вопрос о необходимости шоссейных путей; все эти невзгоды, все эти потери и несчастья взваливали каждый раз на несчастных ямщиков, занимавшихся извозом и взявших на себя обязанность доставить товар на Крещенскую ярмарку к такому-то сроку. Во всем несчастии, во всей беде – они, одни они – ямщики были виноваты. И вот у этих несчастных, не раз искупавшихся в зажоре и уже успевших двух-трех товарищей бросить на постоялом дворе в тифе или в остром ревматизме, отбирали лошадей с сбруями и санями, и все это на Николаевской площади, против полицейского управления, подвергали продаже с молотка в пользу купцов, товар которых был подмочен. У саней-розвальней, с опущенными на грудь головами, в дрянных полушубках стояли ямщики, хозяева лошадей и саней. Многие из них плакали, другие проклинали свою судьбу, но были и такие, которые с изумительным стоицизмом, в молчании переносили салившееся на них несчастье. Не менее жалкие были лошади, обреченные на продажу с молотка. По пятьдесят и более троек собиралось на площади в ожидании аукциона. Но ожиданиям не было конца. По несколько суток стояли несчастные кони, не поенные и без корма. Кони рыли копытами землю, ржали на всю площадь и рвались с коновязи. И не было человека, который бы с чувством отнесся к этой раздиравшей душу картине и протянул бы ямщикам и лошадям руку помощи. А мелкий дождь не переставал обливать всех мокротою, и туман, точно грязной пеленой, прикрывал всю эту массу страждущих от взоров прохожего. И казалось в этой мгле на далеком расстоянии, что не люди и не кони стонали и ржали, а какие-то страждущие тени из Дантова ада…
Никакие мольбы и просьбы, никакие слезы и стоны несчастных ямщиков, оставшихся с одними кнутовищами, не могли смягчить жестокие сердца торговцев. Между тем самая горячая покупка лошадей с аукциона собирала сумму денег, которая не покрывала и половины того, что стоил подмоченный товар. Особенно таким жестоким нравом отличались рыльские купцы…
Но среди таких невзгод и тяжелых лишений были и отрадные явления, о которых я буду говорить в следующей главе, а теперь перейдем к баронессе Мариамне и ее родным.
Если в очаровательном чаду фимиама любви и удовольствий Мариамна как бы умышленно отгоняла от себя мысли о своем родном доме и боялась останавливать свое внимание на вопросе о судьбе своих родных, то я считаю себя обязанным рассказать о Ломакиных, что с ними случилось после ее ухода.
Так как Мариамна долго не возвращалась из бани к ожидавшему ее самовару, который шумел, пыхтел и, блистая полированной медью, рисовался, стоя на столе в компании чашек, варенья, хлеба, то мать ее послала прислугу звать барышню к чаю.
Но прислуга, возвратившись, доложила, что в бане никого нет, да и нет признаков, чтобы там кто-либо мылся. Весть эта настолько была неожиданна, что придать ей значение правды было невозможно.
Ломакина молча выслушала эту весть и, не делая никакого возражения, молча посматривала на окружавших ее родных и прислугу, как бы ожидая, что кто-либо из них скажет ей, где Мариамна, и тем рассеет ее тяжелые мысли. Но все, как и она, были поражены известием и упорно молчали, в недоумении посматривая друг на друга.
Молча Ломакина надела на себя шубу и вышла во двор по направлению к бане. Ее сопровождали две горничные с фонарем. Осмотревши баню и не нашедши в ней ничего, что бы говорило о Мариамне, она вышла пораженная до глубины души таинственным исчезновением дочери.
В это время одна из горничных, при свете фонаря, увидела фортку, выходившую на берег реки, отпертою. Все вышли на берег реки и при свете фонаря увидели на снегу следы теплой дамской обуви, которые выходили на берег реки. Ломакина пошла дальше по свежим следам и, спустившись с пригорка на лед, к ужасу своему, у самой окраины полыньи нашла две золотых булавки, которыми обыкновенно поддерживались косы, еще не вполне высохшие после мытья или купанья.
Первая мысль всем бросилась в голову, что Мариамна утонула в полынье и была течением воды затянута по лед. Но те же следы ног, идущие к другому берегу реки, говорили другое, и все пошли на противоположный берег реки. Тут ясно увидели, что здесь стояли больших размеров сани с тройкой лошадей, вокруг которых видны были следы ямщика и потом след саней вдоль по прямой улице города. Все говорило за то, что Мариамна, с помощью вероломной Афросиньи, кем-то украдена и увезена. Ломакина едва дошла обратно домой и, взойдя на второй этаж в переднюю, свалилась, как сноп, на пол, пораженная обмороком.
Весь дом засуетился, и целый содом поднялся во всех комнатах, в которых всего полчаса назад царили мир и тишина.
Самого Ломакина не было дома, и потому послали за доктором и за ним одновременно.
Врачебная помощь спасла несчастную Ломакину от грозившего ей удара, и она скоро начала поправляться. Ее возвратило к здоровью известие, принесенное ей прислугой, что Мариамна увезена бароном фон-Остенблют в его родовое имение в деревенской церкви. Мать знала, что Мариамна любит Адольфа и скорбела втайне о том, что не могла помочь ей осуществить ее заветное желание – выйти за него замуж. Она сочувствовала браку, но, лишенная права голоса, не могла превозмочь железной воли мужа. На долю русской женщины с незапамятных времен выпало в жизни два крайних положения: она – или властная повелительница, или бессловесная раба. Как в первом, так и во втором положении ей всегда мешали быть человеком.
Характерная черта богатых не только купцов, но и помещиков того времени выражалась тем, что как у тех, так и у других с особенною остротою проявлялись самомнение и упорство, которые известны были в литературе по именем цельности характера.
На самом же деле это было не более как упорство, доведенное до безумия. Для иллюстрации таких натур спешу привести несколько эпизодов, обрисовывающих эти так называемые натуры. Был купец Голиков,[25] принадлежавший еще от дедов своих к старообрядчеству. Дочь его, доведенная им до потери терпения, ушла с известным ему человеком его же круга, тоже старообрядцем, с тем чтобы перевенчаться. Голиков потребовал от старообрядческого священника, чтобы он не венчал их, но священник, имевший все необходимые документы, перевенчал молодую пару. Голиков за такое оскорбление его особы, бросил старообрядчество и перешел прихожанином в кафедральном собор.
Другой эпизод был в семье купца Гвоздева.
Гвоздев имел «сиротское» денежное дело с купеческими детьми Кожанчиковыми, над которыми он был опекуном.[26] Кожанчиковы считали за ним недобору тридцать тысяч рублей и просили его не раз без ссоры и пререканий, чтобы он дал им десять тысяч рублей за всю сумму недобора, обещая ему выдать от себя актовую бумагу о полном удовлетворении. Но Гвоздев был недоступен, как паша, дерзок, как того времени квартальный, и неумолим, как солдат на военном посту. Кожанчиковы вынуждены были возбудить против Гвоздева дело. Волокитство по судам истощило его до изнеможения и окончилось взысканием с него более сорока тысяч рублей или заключение его в острог на два года, если он не уплатит следуемой с него суммы. Но Кожанчиковы сами не желали его страданий и, зная о его больших тратах на суд, предложили ему мировую за десять тысяч рублей. Гвоздев высидел два года в остроге, а денег сиротам не уплатил.
Таков был Ломакин.
Принадлежа к старообрядчеству, он со всею строгостью соблюдал его требование в своей семье.[27] Между тем, не желая отстать от лучшего общества как богач, он воспитал свою дочь в институте, где она за восемь лет пребывания, совершенно отвыкла от старообрядческих правил жизни и потому не могла выносить строгой монастырской жизни в семье и старообрядчеству не сочувствовала. Дочь вместе с матерью бывала на балах и в первый раз познакомилась с молодым бароном на дворянском балу. Казалось, Ломакин желал блеснуть красотою своей дочери и в расчете его было приобрести зятя из высшего круга.
Но когда барон заявил желание быть его зятем, он наотрез отказал ему и предпочел взять себе в зятья сына московского фабриканта, тоже из старообрядцев. Но, главное, он не допускал мысли о том, чтобы кроме его в семье мог заявлять свой голос кто-либо другой, выражая свои желания. И вот при таком режиме жизни, тогда как он мнил о себе как о первом по уму и капиталу человеке в городе, девушка, его дочь, это слабое существо, осмелилась поступить против его воли, осрамить его на весь город и поставить в положение человека, которого слабое существо сумело обойти и обмануть!
Эта одна мысль приводила его в бешенство.
Говорить ли о том, что по городу на другой же день пошел говор по всем уголкам о том, что случилось у Ломакиных. А спустя два дня даже с подробностями передавали о том, кто и как увез Мариамну из города, трактуя событие на разные лады и варианты.
Да иначе и не могло быть. В провинциальном городе каждый день знают, что и в каком доме делается.
Почтенный городской голова Костюрин особенно отличался хлебосольством. Но чтобы оценить эту драгоценную черту его характера, нужно было побывать хотя один раз на его именинах. День своего ангела он праздновал летом. Дом его находился в Харинском переулке; при дворе был небольшой сад; в этом саду по окончании обеда и праздновались именины до позднего часа ночи. В день именин ворота и фортка двора были отперты до начала обеда. Но лишь только обед начался, как ворота и фортка запирались на замок и ключи от них отдавались в руки именинника, который прятал их в свой карман. По окончании обеда все гости выходили в сад, где садились играть в карты, и продолжалось бесконечное угощение вином. Уйти, кому бы ни было, было невозможно.
Более всего памятны мне две личности, которые на этих именинах были выдающимися из среды всех гостей уже потому, что все их знали до именин совсем иными людьми, тогда как на именинах городского головы в его саду они были людьми совсем другими, до неузнаваемости не похожими на прежних. Один был домашним секретарем местного архиерея. Это был человек при исполнении своих служебных обязанностей недоступный ни для кого. Одинаково, как бездомная старуха-вдова пономаря, пришедшая просить помощи у архипастыря, так и протоиерей, имевший нужду побеседовать владыкой, встречали со стороны его самый резкий отказ доложить о них владыке. И жестокое слово «не принимает» могло быть смягченно только звонкой монетой, которая имела свойство чудодейственно отверзать перед чающим двери владычьих покоев.
На именинах хлебосола Костюрина этот человек превращался в самого кроткого и слезливого господина, который плакал о гресех своих, и преклоняя земле лядвия[28] своя, вопиял: «аз грешен есмь вельми, и господь отвратил лице сове от меня и оставил мя у врат геенны огненные»…
Второй – это был правитель крепостного стола гражданской палаты. Во время исполнения своих служебных обязанностей он был вам известен как человек мягкий, ласковый, предупредительный. Но в гостях, на пиру у Костюрина, он делался другим человек.
Он хотел всеми повелевать, он требовал, чтобы все его слушались, и исполняли его требования. Но удивительно, что секретарь владыки любил быть в обществе производителем дел гражданской палаты, который его покорностью утолял свою жажду к власти. И вот начинается целый ряд сцен, полных комизма.
Почтенный именинник знал это и, кажется, умышленно сажал их в своем саду вместе за небольшим столом, на котором стояла неиссякаемая бутылка портвейна. В саду всем давалась полная свобода и потому, проводя в нем время под осенью штамбовых роз и высоких кустов французской сирени, никто там не рисовался, а был таким, каким его создала природа.
- Ну послушай! – говорил секретарь владыки, горько плача, – ведь я – подлец!…
- Становись, я тебе говорю, на колени и проси, чтобы я тебя простил!
И секретарь становился на колени и, скрестивши на груди руки, в молчании ожидал новых приказаний своего грозного повелителя.
- Стой, не смей! – кричал ему повелитель. – Прежде нужно выпить, а потом становись на колени и бей поклоны!..
На именинах Костюрина никогда не было дамского общества.
Это несомненно давало гостям еще более простора и свободы, почему весь сад был переполнен разнообразными сценами.
Старичок Басов, секретарь сиротского суда, обыкновенно ходил по широкой аллее сада и сам с собою громко вел беседу.
- Все от бога, все! – говорил он, поднявши глаза к небу. – Вот козявочка крохотная ползет, и вот у нее и ножки есть, и животик, и ротик. Боже, боже, как ты велик и добр к нам многогрешным!
А тут, сбоку аллеи, на травке стоял стол, за которым шел преферанс. Один партнер – на семи без трех. И взрыв хохота оглашает сад.
- Душечка мой, милушечка мой! – кричал старичок с Владимиром в петлице своему партнеру. – Ведь это все сделал ваша трефочка! Голубчик мой – трефочка!..
У трех кустов штамбовой розы трое уже уснули праведным сном. Точно папильончики[29], упившись нектаром душистой розы, они мирно успокоились. Жаловаться на разнообразие и скуку празднества было невозможно.
Вот трое, тенор из хора кафедрального собора, толстобрюхий мясник и купец бакалейного товара, уселись на травке-муравке и, стараясь превратить себя в маленьких певчих, пели дисантом «Да исправится молитва моя». А тенор бутылкою дрей-мадеры дирижировал.
А там, в углу сада, в беседке, среди акаций, дьякон Калибердинский, окруженный любителями густого баса, на весь сад гремел: «Жена да убоится своего мужа».
- Вот голос, вот голосина! Это ужас и только! – говорил один торговец красным товаром чиновнику-молодожену, который, в противоположность серьезной компании, сидел грустным и погруженным в самого себя.
- Да что голос? Голос – голосом, а вы вслушайтесь в слова апостола: «Жена да убоится своего мужа»! Правильно, правильно сказано, хоть в протокол заноси!..
Я упомянул, что С.К. Костюрин был неоднократно избираем в городские головы. При управлении думою Костюриным секретарем думы был некий Линицкий. Это был весьма почтенных лет старичок, который, как удрученный летами, ходил согбенно и потому многим казался горбатым. Добродушный старик, всегда сонливый, медлительный и молчаливый, он был всеми любим и знал механизм городского управления в совершенстве. Если мы примем во внимание, что в то время в городские головы нередко выбирались купцы полуграмотные, умевшие написать только свое имя и фамилию; если мы вспомним, что не только городские головы, но даже бургомистры и ратманы того времени служили без жалованья и тяготились службой; что секретарь, столоначальник и делопроизводитель думы, эти три краеугольных камня, на которых зиждилось все управление думы, содержание от города получали самое ничтожное и жили на прибавочное жалованье от городского головы, так как они всегда имели возможность подвести под суд и даже пустить по миру всех представителей думы, – то нам будут поняты интимные отношения головы к чиновникам думы. Все упомянутые чиновники думы жили невозбранно на животах просителей и таким путем наживали себе домики и обеспечивали свои семьи нередко капиталом в сто и двести тысяч рублей. Но тем не менее, такое ненормальное положение дела, такая искусственная структура служебных отношений старших к младшим заставляла многих уклоняться от выборов в городские головы или в ратманы и бургомистры.
Костюрин, хотя и был женат, но бездетный человек и обладал весьма крупным состоянием. При этом он имел у себя в погребе целую химическую лабораторию, при помощи которой творились чудеса: простое сантуринское – превращалось в портвейн и херес; белое вино – в лафит и шабли; красное крымское – в церковное вино и в кагор; а из кизлярской водки делались ром, коньяк и даже джин английский, натуральный, как гласит этикет на бутылке. Все это, вместе взятое, давало ему возможность ежегодно приращать свой капитал и делаться человеком, для которого израсходовать ежегодно крупную сумму не составляло большой потери. А потому его-то и выгодно было выбирать несколько раз в городские головы.
Как богатый человек, да еще и городской голова, Костюрин ко всем относился более чем фамильярно. Секретаря думы Линицкого за его медлительность он называл «молнией», столоначальника хозяйственного стола – Варравой, а делопроизводитель имел прозвище – «Строка». Такие surnom[30] Костюрин любил давать всем и нередко даже экспромтом человеку, в первый раз пришедшему к нему по делу. Не ушел от такого surnom даже прозектор университета, доктор медицины Вилькомирский, который был призван к нему как к больному.
Прозвища, даваемые Костюриным своим подчиненным чиновникам, настолько были всем известны, что один из купцов выдавал замуж свою дочь и послал секретарю думы приглашение на свадьбу с надписью на билете: господину Молнии, секретарю думы. Что же касается просителей, то нередко таковые приходили в думу и спрашивали у служителя:
- А где здесь Варрава и Строка?
В то время почти всюду царили «простота сердечная и доброта беспечная». Но в управлении думы, под фирмой С.К. Костюрина, простота царила во всей своей силе.
Я уже сказал, что Костюрин постоянно сидел в своем «Капернауме», куда и обращались к нему по всем делам думы. У погреба всегда стояли его дорожки, которые в известный час привозили из думы и отвозили обратно секретаря Молнию. Секретарь привозил с собою кучу бумаг для подписки уже решенных дел. Иногда вместо того, чтобы собраться в думу на заседание, собирались в «Капернаум», и там в тихой беседе, за очередной бутылкой лиссабонского вина и соленой закуской, решались дела города, причем Молнии, совместно с Варварой, поручалось составить у себя дома протокол заседания для надлежащей подписи. Из этого заседания думы немногие уходили домой, большинство членов развозились по домам, так как после продолжительных и головоломных словопрений, отцы города изнемогали и «яко жезлы, от древа живого отсеченные, лежали, сил неимаши восстати».
В «Капернаум» по делам думы стекались и подрядчики, бравшие на себя подряды освещать город конопляным маслом или заваливать рытвины на улицах, вымытые дождем.
Если какому-либо обывателю или подрядчику нужно было получить от думы деньги, голова пользовался этим случаем, для чего поочередно в «Капернаум» приносили деньги или Молния, или Варрава, или Строка. При сем, судя по сумме получения, голова оставлял пять, десять и сто рублей в пользу принесшего деньги.
Так служили и радели о нуждах граждан отцы города, и было в те годы в г. Харькове все зело хорошо, чисто, прекрасно и безвредно…
С.К. Костюрин очень уважал и чтил книгу «Житие святых отец». Нередко, сидя в «Капернауме», он, в назидание заблудших овец, ставил в пример то одного, то другого святого.
Однажды, когда собрались в «Капернауме» деловые люди, рассуждая о благоустройстве города, ставя при этом его совершенства в пример другим городам России, был тут один из подрядчиков, имевших взять н себя подряд починки мостов и кладок. Лиссабонское, по очереди и через узелки, шло своим чередом. Подрядчик истощал все свое красноречие на то, чтобы доказать, что он, если что возьмется делать, так сделает хорошо, по-божески. При этом он упомянул имя какого-то святого, на житие которого он сослался, дабы придать авторитетность своему слову.
Спешу предупредить читателя, что Костюрин, как русский человек, не мог обходится без брани, и крепкими словами пересыпал постоянно свою речь не потому, что был сердит, а просто потому, что
Брань нужна для русского народа:
Как соль ко щам, как сало к каше,
И все отцы и деды наши
Веселье ль, свадьба ль иль невзгода –
Все словом крепким каждый раз встречали
И бранью крепкою – обратно провожали…
- Ах ты, подлец некрещеный! – возразил подрядчику председатель «Капернаума». – Еще ты смеешь равнять себя с этим святым? Да знаешь ли ты, как этот святой умер?
- Знаю! – отвечал подрядчик.
- Ну, говори, если знаешь! – закричал повелительным тоном Костюрин.
- Ему отрубили голову! – ответил подрядчик, набравшись храбрости под влиянием лиссабонского вина.
- Ну, а если бы твою дурацкую голову стали рубит, что бы ты сказал? – спросил его защитник правды.
Подрядчик неожиданно для всех стал на четвереньки перед городским головою.
- На! Руби – смело и решительно сказал подрядчик.
- Ну, хорошо! Стой же как, пока я приду!..
Костюрин из длинного чубука потянул дым вактаба и, поднявшись с своего места, ушел в погреб.
Подрядчик остался ожидать его стоя на четвереньках.
Все находившиеся на заседании в «Капернауме» были поражены происходившим и не знали, что предпринять.
Через минуту-две городской голова возвратился из погреба в комнату и в одной руке его был длинный чубук с дымившеюся трубкою, а другой руке он держал бондарский отточенный топор.
Как ни были заседавшие подвыпивши, но увидевши топор, отрезвели.
- Ну-ка, подставляй свой котел глиняный! – сказал Костюрин стоявшему на четвереньках подрядчику.
- Руби!! – крикнул подрядчик и стал получше на четвереньки.
Городской голова быстро спрятал топор себе за спину, а чубуком с дымившейся трубкой так ударил по спине подрядчика, что трубка слетела с чубука, а подрядчик мгновенно выскочил на ноги.
Отсечение головы закончилось гомерическим смехом, который вызвал складчину на лиссабонское вино и на закуску.
И подряд на починку мостов и кладок был оставлен за ним.
Кладбище. Кажется, нет другого места, которое не было бы так печально, не носило бы на себе столько скорби и горя, как место вечного упокоения людей.
Прадеды и деды наши были близкие к нам, отцы наши и матери, братья и сестры, люди, дорогие сердцу нашему, прелестные женщины – счастье дней нашей юности, очаровательные дети – этот залог любви и счастья семьи – все там почили все на кладбище обрели себе мир и покой… И среди этой немой тишины, среди этого облика смерти, молчаливо лежат целые страницы из жизни тысячей людей, целые тома из истории деяний когда-то жившего человека. Кладбище – это архив, состоящий из разрозненных листов и томов истории всего человечества. В молчании немом листы эти и тома ожидают того, который бы пришел, прочел и разобрал их и составил бы из них одну целую и законченную книгу. И в этой книге, среди мертвых, живой человек найдет ответы на целую массу вопросов, так волнующих каждого человека, который в борьбе и лишенных ищет на них ответов и падает в бес сознания перед сфинксом жизни, измятым в когтях его за то, что не сумел он ответить на заданные им вопросы…
Люблю я иногда посетить старое кладбище. Среди могил, заросших кустарником, то здесь то там всегда найдешь полусгнившую оградку или пошатнувшийся крест, на которых сохранилась надпись, которая мгновенно переносит человека за сорок и пятьдесят лет назад, и он вновь начинает переживать то, что казалось ему давно уже умершим и погребенным.
Пробираясь однажды через заросли вишняка и мелкого березняка, когда-то посаженного у дорогой могилы заботливой рукой, мне пришлось найти надпись над могилою хорошо мне известного человека, с которым связаны были моя юность и первые годы мой возмужалости. Павел Иванович Середа, магистр историко-филологических наук, помещик Харьковской губернии, обладатель пятисот душ крестьян и одинокий человек. Он жил постоянно в Харькове и чуть не пятнадцать лет на одной квартире, на Николаевской улице, и вел жизнь кабинетного ученого, дверь которого всегда была открыта для студентов университета, которым он много помогал, для профессоров, а также для учителей гимназии и вообще для развитых людей того времени. Его все любили за его ум и благородную душу. Павел Иванович Середа вел свою родословную от древних запорожцев. Его предок был в Запорожье тысячником и управлял целым станом. А во время последней битвы Богдана Хмельницкого с поляками он был захвачен в плен и живым зажарен на железных листах во время допроса. Павел Иванович знал отлично Тараса Григорьевича Шевченко и провожал его в ссылку. Все это развило в нем непреодолимую любовь к своей родине, а развившееся в то время под влиянием поэзии Шевченко украинофильство сделало его поборником идей, которые не имели под собой никакой серьезной почвы. Середа любил свою науку и был передан ей всею душою. Он некоторое время мечтал занять при университете кафедру по истории и с этой целью вместо диссертации написал в двух томах историю Малороссии. Но этот труд не мог быть разрешен цензурою к печати, и он сжег его собственноручно. После такой неудачи, он оставил всякие помыслы о кафедре и, замкнувшись сам в себе, жил особняком, чуждаясь семейного круга и женщин, которые будто бы боялись его как человека крайних убеждений. Не могу сказать, насколько прав в своих заключениях был Середа, но все же нельзя не сказать, что у него было не мало хороших сторон, хотя были и странности.
Имея хорошее состояние, он занимал всего четыре комнаты и переднюю, тогда как мог бы легко оплачивать квартиру в десять комнат. Спальня, рабочий кабинет, зал и комната для слуги составляли его квартиру, которая была безукоризненно чиста, но убрана без роскоши. Он говорил, что для человека со средствами большой квартиры не должно быть. Но для слуги иметь особую комнату в то время считалось вольнодумством. А к этому новшеству с его стороны присоединилось еще и то, что он своего крепостного слугу, который когда-то был его дядькой, сам выучил грамоте и держал его на жалованье. Все это шло, конечно, вразрез сообщим режимом жизни.
- Почему вы не женитесь? – как-то спросил его больного, когда он лежал один и нуждался в уходе за собою.
- Я не верю в возможность иметь счастливый брак! – ответил он, – а жениться для того, чтобы на случай болезни приобрести себе сиделку, – это унизительно как для меня, так и для жены.
- Почему же вы думаете, что счастливого брака быть не может?
- По очевидной для всех причине! Также спокойно ответил он. – Пока женщина не перестанет быть для нас игрушкой, забавой, развлечением, чем хотите, но не человеком, брак не может быть счастливым.
- Жизнь холостяка бесцветна! – возражали ему на его ответ. – Притом человек, любящий комфорт жизни, может достигнуть его только женившись.
- Какой материальный взгляд на брак! – и смеясь, ответил он. – Надо иметь только деньги – и без жены будет жизнь удобна и полна комфорта. Посмотрите, чем моя жизнь не хороша? У меня хороший стол, дорогие вина, чистая сервировка. Чего еще надо?
Когда я приехал в Харьков по возвращении моем из Петербурга, я первого посетил его. Он очень обрадовался, увидавши меня, и, как любитель искусства, начал расспрашивать меня о моих успехах в нем и о виденных мною картинах великих мастеров.
Узнавши, что я получил степень художника, Павел Иванович поздравил меня.
- Ну, теперь и я и вы – мы более близки друг другу, чем были прежде! – сказал он мне и пожал дружески мою руку.
- Я очень рад! – поспешил я ответить, – но скажите, почему так?
- А потому, что мы оба теперь изображаем собою две древние монеты, которые редки и интересны, но для оборота никому не нужны…
На его горькое замечание я ничего не сказал. Но когда я начал свою художественную деятельность, я не раз вспоминал его меткую остроту.
Прошел год, и я уехал за границу и расстался с ним более чем на два года.
Возвратившись из-за границы, я узнал о Павле Ивановиче кое-что необычайное и даже не повторил всему, что о нем слышал.
Но когда я увидел его, я сразу узнал, что все мною о нем слышанное было правда. Один его наружный вид произвел на меня удручающее впечатление. Я был с ним знаком через моего доброго и благородного гувернера, Ф.И. Журовского, с четвертого класса гимназии. Он держался постоянно старого режима, и потому меня поразило, что за два года жизнь человека могла так измениться, что русло ее приняло иное настроение, повернув под острым углом в сторону…
Читатель помнит, что один человек был сбит с ног на Сумской улице рысаком купца Медведева. Он был настолько помят им, что слег в постель и пролежавший дней десять, умер.
Нет человека, который бы не был достоин, чтобы о нем не сказали слова. Но Сергей Петрович Редюгин достоин доброй памяти. Человек он был с весьма ограниченными средствами, но весьма талантливый и честный. Окончивши курс в Петербургском технологическом институте, он изъездил чуть не пол-России, искавши себе места для занятий по своей специальности, которую очень любил. Но так как в то время заводская и фабричная производительность шла весьма тупо, а к людям науки относились с большим недоверием, то Редюгин не нашел для себя ничего подходящего и наконец основался в Харькове, который был для него не чужим, так как он тут родился.
Энергия его способность к изобретательности сделали его человеком не без странностей. Как Тантал, он постоянно испытывал мучения и сделался задумчивым, сосредоточенным в самом себе и казался равнодушной толпе человеком ненормальным. А частое его обращение к богатым купцам с предложением устроить завод или какую-либо фабрику возбуждало среди темного люда иронию и смех.
Вот это-то Редюгин, сосредоточилась сам в себе, идя домой от своего приятеля, такого же горемыки, каким он был сам, не услышал оклика ездока и попал под его сани.
- Я знаю, мне уж не жить на земле, – сказал он мне за несколько часов до смерти. – Мне жаль только, что я не вовремя родился и умираю как сухая ветка, никому не нужная!..
- И крупная слеза скатилась с его погасавших глаз.
Как-то, бывши в Будах[31], вблизи фаянсового завода Кузнецова, мне еще раз пришлось вспомнить Редюгина, который многим купцам предлагал открыть вблизи Харькова фаянсовый завод и показывал глину, которую он нашел годною для этого дела. Но скорбит душа, когда память начинает рисовать картину того унижения, какое пришлось ему однажды перенести за такое предложение. Русский человек всегда дает перевес своему чувству над разумом. И потому в его поступках нередко приходится наблюдать две крайности: в одном случае он добр до самоотвержения, в другом – он равнодушен к несчастью ближнего до жестокости. Представитель банка или иного какого-либо торгового учреждения растратит не принадлежащие ему тридцать-пятьдесят тысяч денег, расплачется перед членами учреждения, поклонится им, и весь долг, всю учиненную им растрату ему просят пререканий и злобы. В другом случае – не простят бедняку-труженику трехсот рублей, и всего его продадут аукциона, без сожаления и пощады… Эти явления так заурядны, что о них нет необходимости много говорить. Но есть еще более жестокая черта у русского человека, вытекающая из того же источника, – это ради развлечения, в праздные часы издеваться над талантом и умом, подавленными безвыходной неудачею или бедностью. Прекрасно подмечена эта черта русского человека нашим драматургом Островским в его пьесе «Шутники» и художником Прянишниковым в его картине «Гостинный двор». Таким издевательствам подвергался и Сергей Петрович Редюгин.
В описываемые годы все лавки и магазины не были отапливаемы и даже многие из них не имели стеклянных дверей, почему в задней части лавки или магазина имелась маленькая комнатка, в которой хозяева заключали сделки с крупными покупателями и, чередуясь, угощались водочкой и соленой закуской.
В посудной лавке Олсуфьева на Павловской площади[32] великим постом сидела компания и один торговец вином рассказывал с плоским комизмом о Редюгине, который предлагал ему устроить пивной завод. Все смеялись, и Редюгин у всех не сходил с языка. Вдруг, к общему удовольствию, является Редюгин. Все переглянулись и толкнули друг друга. Редюгин, скромный, как девушка, маленький ростом, одетый не богато, отрекомендовал себя хозяину лавки технологом и положил на стол какой-то ком, с полпуда весом.
- Летом, живя в деревне, я нашел в окрестностях Харькова прекрасную фаянсовую глину из которой можно с успехом делать прекрасную посуду. Не желаете ли, я могу устроить вам и пустить в ход фаянсовую фабрику? – сказал Редюгин и, развернув бумагу, показал ком глины.
- Позвольте? – спросил Олсуфьев. – Кто вы такой?
- Я технолог! – отвечал Редюгин
- Это что же такое значит? – спросил Олсуфьев.
Редюгин пояснил подробно, в чем заключаются его специальные знания.
- Так-с! – ответил купец. – Но позвольте же узнать, почему вы знаете, что эта глина годна для посуды?
Все начали смотреть и пробовать глину, а Редюгин начал доказывать им достоинства ее.
Со всех сторон сыпались на него остроты. Речь его перебивали различными возражениями, и бедный Редюгин в те часы походил на волка, окруженного собаками.
- Да что вы рассказываете! – грубо возразил один из гостей. – Этой глиной у меня бабы припечки мажут, а вы из нее хотите посуду делать!..
Все разразились гомерическим смехом. Редюгин в отчаянии махнул рукой и вышел из лавки.
- Постой, постой! – раздались голоса вслед за ним. – Возьми же свою фаянсовую глину! Ха, ха, ха!..
Редюгин не слушал их и быстро удалялся от лавки по улице.
Всю дорогу он шел расстроенный и громко говорил сам с собою.
А тем временем веселая компания, довольная тем, что потешилась, расходилась по домам к обеду…
Старый вице-адмирал, барон фон-Остенблют, получивши известие, что сын его с невестой благополучно прибыли и венчание уже началось в храме, приказал своему оркестру готовиться к торжественной встрече молодых. Осветив зал и все комнаты, адмирал оделся в парадную форму и, украсив грудь орденами, стал у входа в зал для встречи молодых, держа в руках хлеб-соль на золотом блюде. Любя сына, он рад был его счастью и, как одинокий вдовец, всегда любивший семью, с нетерпением ожидал, что его одиночество украсится семьей сына.
Молодые подъехали к парадному крыльцу и вошли в зал, залитый светом сотни стеариновых свечей и карсельских ламп[33].
Адольф был одет в полный парадный костюм офицера конвоя его величества, а Мариамна была одета более чем в простое платье, в котором она выехала из дома родителей. Но и в этом простом наряде, среди пышной обстановки зала, она не умалила своей красоты и диссонансом своего наряда завершала гармонию аккорда.
Как Нептун[34], украшенный седой шевелюрой, напоминавшей белую пену высокого гребня девятого вала волны, стоял перед молодыми маститый старец, принимая дорогих гостей хлебом-солью.
- Дочь моя! – обратился он к Мариамне. – Я в первый раз вижу тебя и уже люблю тебя так же, как люблю сына своего. Я – осиротевший старик. Прими же меня – старого моряка, и на конец дней моих будь для сына другом, а для меня – тихой пристанью…
Старик обнял Мариамну и поцеловал обе ее руки.
- Все, что ты видишь – твое! – сказал старый барон, указавши ей рукою на окружающую роскошь. – И мы оба к твоим услугам! – смеясь и кланяясь ей в пояс, прибавил вице-адмирал.
На другой день молодой баронессе был предоставлен целый штат мужской и женской прислуги, предназначенной специально для нее.
По общему соглашению через три недели был назначен бал в имении барона и были разосланы билеты ко всем высокопоставленным лицам губернии, а также к помещикам и купцам.
Афросинья назначена была смотрительницей за гардеробом и женской прислугой баронессы.
Мариамна была в каком-то опьянении от полноты своего счастья. ЕЕ желания исполнялись с полной предупредительностью и готовностью угодить ей. Она не могла не сознавать своего престижа в доме и легко привыкала к нему как к чему-то законно ей принадлежащему.
Афросинья, привыкшая к жизни купеческих семей, видя, как все преклонялись перед молодой баронессой, начинала бояться за ее счастье.
Однажды жена священника спросила у Афросиньи, как живется баронессе в деревенской глуши.
- Ох, уж и не спрашивайте! – ответила Афросинья. – Она такая счастливая, что я испугалась бы такого счастья! А мне все вот гребень-то ее, что она потеряла, не идет с ума. Волосы матушка, ведь это – дорога жизни. А гребень, что день, эту дорогу чешет да разглаживает. А, вишь, его его-то она потеряла. Без гребня-то волосы путаются да в комья сбираются. Ну, как жизнь-то ее спутается да комчатая будет, и спаси господи!..
Чтобы Мариамна не соскучилась, старый и молодой бароны начли конкурировать между собой в придумывании каждый день новых развлечений. Устраивалось катанье по льду реки, поездки на охоту, концерты, оркестры и soirees musicales[35], в которых сама Мариамна, как пианистка, принимала активное участие. Казалось, будто с умыслом придумывалось все, что было необходимо для того, чтобы не дать ей ни минуты оставаться с самой собой.
И ближе ее, наперекор рассудку,
Всю жизнь ее старались превратить
В игру веселую или пустую шутку,
Во все, чем можно усыпить
Любви возвышенные чувства.
Как-то Афросинья напомнила ей об ее отце и матери, причем рассказала ей, что она видела плохой сон.
- Ты вечно со своими предрассудками! – ответила ей Мариамна. – Право, мне уже это наскучило!..
И няня, сконфуженная ответом счастливой баронессы, замолчала, глубоко вздохнувши.
Расставаясь в своих воспоминаниях с Павлом Ивановичем Середою, не могу не вспомнить о другом, не менее сердечном человеке – Павле Ильиче Загибе, который был моим репетитором по математике и оставил в душе моей самые теплые чувства любви и признательности к нему. Он был известен всем простым обывателям города, а также подгородним крестьянам сел – Ивановки, Жихоря, Куряжа, Немышли и Журавлевки под именем Павла Загыбы. Его curriculum vitae[36] весьма не сложно. Павел Ильич был родом казак, сын бедного пономаря Полтавской губернии. Учился он, как это и подобает его званию, в духовной семинарии. Но учился он весьма плохо и, оставаясь по несколько лет в одном классе, только удваивал курс своего учения. Это был завзятый лентяй, как он часто сам себя называл, и такого ученика семинария давно б исключила за неспособность, но его спас от этого его действительно выдающийся голос – бас. Оставляя в стороне его леность к учению, начальство семинарии не раз предлагало ему место дьякона с тем, чтобы впоследствии, когда он изучит дьяконскую службу, предоставить ему место протодиакона при кафедральном соборе. Павел Ильич соглашался на такое предложение, но не иначе, как по окончании полного курса семинарии. Не желая потерять в лице его весьма завидного протодиакона, начальство давало ему всевозможные льготы при экзаменах и таким путем помогло ему окончить полный курс семинарии с должным аттестатом.
Ему только этого и нужно было.
Павел Ильич Загиба, получивши аттестат, немедленно приехал в Харьков и поступил в университет на физико-математический факультет по отделению чистой математики.
В университете он оказал весьма завидные успехи и был одним из первых студентов в своем отделении. Ему было предложено помещение в общежитии при университете. Но, любя свободу и обладая энергией к труду, он отказался от предложения, сделанного ему университетским начальством, и жил на частных квартирах, зарабатывая деньги на жизнь переводами и подготовлением молодых людей к вступительному экзамену в университет, что в те годы давало хорошие заработки. Павел Ильич был характерным студентом того времени. В те годы контингент студентов университета состоял преимущественно из сыновей богатых помещиков и купцов или очень бедных детей разночинцев и духовного звания, привыкших к суровой жизни, какую только может дать безвыходная бедность. Первые – дворяне и купцы – поступали в университет преимущественно с домашнею подготовкою под ферулой гувернеров и учителей гимназии и студентов. Вторые, по окончании гимназии или семинарии, входили в университет уже закаленными в терпении и настойчивости, готовыми бесстрашно вступить в борьбу с жизнью. А потому, как первым была не страшна жизнь вследствие богатства их родителей, так вторые пренебрегали нуждою и бедностью уже потому, что они с пеленок видали ее, свыклись с нею. Как бы на помощь всем этим беднякам всегда приходило в те годы богатое товарищество. Весьма часто богатый помещик или сын купца, занимая хорошую квартиру в несколько комнат, давал у себя приют двум-трем товарищам-беднякам и таким способом облегчал их нужду. А так как дворянство того времени держало знамя своего достоинства на достаточной высоте, то общий тон, даваемый им, не мог не влиять и на молодежь из бедного сословия, вырабатывая в ней сознание собственного достоинства. В те годы, за весьма немногими исключениями, среди студентов можно было встретить такого, который крепя сердце стерпит без возражений, если его в лицо назовут бедняком. Слово бедный – это было оскорбительное слово даже для самого беднейшего студента. И потому с большою неохотою шли студенты на казенную стипендию в университетское общежитие. Был однажды такой выдающийся случай, характеризующий студентов того времени. Однажды весьма богатый помещик, он же предводитель дворянства, Бахметьев,[37] в начале великого поста прислал на имя ректора университета пятьсот рублей, с просьбой найти трех бедных студентов и выдать им поровну в единовременное пособие. Инспекцией университета было вывешено объявление, по которому приглашались студенты в инспекцию заявить о своей бедности. Но три недели висело объявление, и никто в инспекцию не явился. Тогда сама инспекция, зная бедное состояние некоторых студентов, выбрала из среды их трех человек и пригласила таковых к ректору, который предложил им получить присланные в пособие деньги. Но студенты обиженным тоном отказались получить пособие.
- Мы не знаем, г. ректор, за что вы нас обижаете, говоря нам, что мы будто бедные? – обиженным тоном ответил один из них ректору на его увещание принять пособие.
- Бедный тот, кто лишен всяких способностей, кто хронически болен и потому бессилен противостоять напорам жизни! – сказал другой студент. – А мы, г. ректор, не бедны, если признаны целым университетом достойным быть студентами. При этом мы здоровы и сильны.
Присланные деньги г. Бахметьевым были отосланы в благотворительное общество, так как среди студентов университета не оказалось ни одного бедняка, нуждающегося в пособии…
Таким бедняком, не признавшим бедности, был и Павел Ильич Загиба. Всегда веселый, живой и остроумный, всегда готовый поддержать товарища в беде и напасти. Павел Ильич был завзятый танцор, рассказчик анекдотов и любитель нескончаемых споров. Поступивши в университет, он изучил французский и немецкий языки, почему в спорах всегда высказывал хорошие знания не только отечественной, но и иностранной литературы. Однажды товарищи подняли его на смех за пристрастие к танцам и доказывали, что человеку серьезного направления не полагается увлекаться такими пустяками.
- Эх вы, отжившие жильцы земли! – возразил Загиба. – Кто это вам преподал такую философию? Увлечение – это прообраз молодости, это ключом бьющая жизнь. Только увлечения вырабатывают из них и людей науки, и корифеев высшего искусства, и самоотверженных граждан героев. И так:
Будем петь мы и плясать,
Будем спорить и кричать!
В песнях, в танцах и игре, –
Точно в утренней заре, –
Залог света жизни новой,
На подвиг и любовь готовой!
- Вот вам мой экспромт, – ура!!!
Такими и подобными им выражениями экспромтами всегда Павел Ильич отстаивал свои убеждения и взгляды на жизнь, а оставаясь победителем он стяжал себе среди молодежи право на любовь и первенство.
Когда-то великий Гете сказал: «Die Jugend muss austoben», – юность должна перебеситься, – и, быть может, поэтому Загиба, не зная, куда и как израсходовать свою силу и избыток энергии, любил богатырские потехи и зимою нередко принимал участие в кулачных боях. Кулачные бои, или – как их называют в народе – кулачки, устраивались в то время очень не редко. В праздничные дни зимою, когда солнце клонилось к западу и мороз начинал крепчать, в разных концах города собирался кучками народ и забавлял себя куличным боем. Этот род забавы в те годы был общепринятым во всех городах и весях земли русской, и потому я нахожу интересным описать кулачные бои, происходившие в г. Харькове, более подробно.
В те годы кулачные бои были общепринятым удовольствием обывателей г. Харькова. За Мариинским мостом на реке Нетече, у Барабашевой гребли, где в настоящее время Кузнечный мост, у Сомовой гребли, где теперь садовое заведение г. Грикке, на льду собирались кучками мальчишки и, как бы греясь на морозе, начинали угощать друг друга кулаками. При этом то один, то другой из мальчиков подбегал к прохожему и внезапно угощал его кулаком по чем пришлось. Получивший удар кулака бросался на мальчика, который быстро убегал и таким маневром затягивал прохожего в кучу дерущихся. Таким способом увеличивалось число дерущихся и толпа доходила до внушительных размеров.
Среди кулачных бойцов существовал даже особый язык, лаконический и понятный лишь тем, кто считался заправским мастером. Так например: дать блоху – это значило ударить в шею; пустить звонаря – значит дать удар в ухо; положить гриба в живот – значит дать удар в грудобрюшную преграду и проч. Но на вышеупомянутых местах кулачные бои не были в славе. Их вообще называли куриными боями, и в деле этого искусства эти бои играли роль, так сказать, средних учебных заведений. Главная же арена кулачного боя всегда составлялась на льду р. Лопани, вблизи Ивановской левады. (илл. 032)
Там собиралась толпа, состоящая не только из молодежи, но и старики принимали активное участие в этих кулачных боях. И отличившийся когда-либо на таковом кулачном бое делался известным, как герой, всем окрестным окраинам г. Харькова. Так, кузнец с Ивановки Титько был признан всеми за бойца, которому нет равного. Бои при Ивановской леваде назывались быками, и если кто был в бою на быка, – значит, имел силу.
В дни Рождественских праздников толпа нередко доходила до тысячи человек, так как ее составляли жители Холодной и Лысой гор, жители подгородного села Ивановки и все население Песок с целым районом подгорной части, от Клочковской улицы, Панасовки, Кацарской и Чеботарской улиц и кончая Конторской улицей. Жители нагорья и подгорья участвовали в боях как бы две враждебные партии, из которых одна называлась Горой, а другая – Замостьем. Замостье шло против Горы или же Гора брала штурмом Замостье. Битвы иногда доходили до такого ожесточения, что стоны искалеченных и полуубитых потрясали воздух и разогнать толпу уже не представлялось никакой возможности. В таких случаях выезжала пожарная команда и всю толпу обивали из труб водою до тех пор, пока народ не расходился. И тогда на оставленной толпою арене боя лежали люди, истекающие кровью, с подбитыми глазами и с перебитыми челюстями.
Любовь друг к другу позабыв
Вражду в забаву превратив,
Они, шутя, дерутся, нападают
И землю кровью обагряют…
Но обходились такие битвы и без того, чтобы какого-либо из обывателей намеренно не побили так, что он, пролежав некоторое время, умирал в цвете лет и сил.
Слесарь Дюжанов сватался к дочери маляра Бунаковой, тогда как невеста была более расположена к пряничнику Разовкину. Чтобы избавиться от соперника, Дюжанов устроил так, что Разовкин был сильно избит в кулачном бою и, прокашляв с год, умер.
Но были и случайные, не намеренные убийства. Так, однажды девица Мамкова, дочь сапожника, была убита ударом в висок и потоптана толпою.
Вот в таких-то боях любил Загиба принимать активное участие, и особенно в таких случаях, когда Замостье ослабевало, а Гора брала верх.
Одевшись попросту в народный костюм, Павел Ильич шел по направлению Клочковской улицы, к месту кулачек.
Устрашенные напором Горы обессиленные бойцы возвращались с битвы, рассуждая между собою о неудачно сделанной вылазке. Но, увидавши Загибу, они бегом возвращались к своим, чтобы оповестить, что Павло Загыба идет на помощь. И эта радостная весть поднимала дух храбрости и отваги у пораженных Горою замостцев. Являлся Загиба и, как погасивший костер вновь вспыхивает от брошенного в него горючего материала, так начиналась ожесточенная борьба с появлением любимого бойца.
- А ну, хлопци-козаки, гоните Гору в нору! – кричал полтавский геркулес, и все вновь бросались в бой.
Таковы были физическая сила и влияние на толпу Загибы, и победа почти всегда оставалась за Замостьем.
Надеясь на свою силу и любя простоту жизни, Павел Ильич жил на Журавлевке, откуда путешествовал каждый дань в город, несмотря на невылазную грязь, на сугробы снега и на ужасную гололедь.
Там, же, на Журавлевке, вблизи его квартиры жила бублейница Мавра Стряпуха. А у нее была дочь Ульяна, краснощекая и круглолицая казачка, пленившая собою Павла Ильича, который с отцовской заботливостью занимался ее развитием.
Он выучил ее читать и писать, познакомил с поэзией Шевченко и Пушкина и даже выучил ее аккомпанировать на гитаре, так как Ульяна, или Уля, как он любил ее называть, любила петь народные песни.
- А наш Загиба обворожил совсем Улю Стряпуху! – как-то, смеясь, сказал один из его товарищей.
- Honny soit quil mal y pense![38] – серьезно ответил Загиба на замечание товарища и погрозил пальцем.
- Ну, что скрываться? – в свою очередь возразил ему товарищ. – Ведь ты не женишься на ней?
- А почему бы и не жениться? Она – мещанка, а по роду – казачка. А я кто? По роду – внук простого казака и сын бедного пономаря. Вот и все.
- Да тут не в родословиях дело, а дело в том, что ты не женишься на ней.
- А я вам говорю раз навсегда, что Уля – моя невеста, и потому прошу о ней не говорить дурно!
И Загиба говорил серьезно. Он любил Улю и, развивая ее, готовил себе в подруги жизни.
Но и Уля была предана ему всею открытою душою полудикарки, готовой, не задумываясь, умереть, если бы это оказалось необходимым для блага Павла Ильича, которому отдала она свою душу и сердце.
Был праздничный день масляной. Разгул народа принял широкие размеры, и полупьяная толпа с энергией, сильно поднятой не в меру выпитой водкой, собиралась на льду у Ивановской левады для кулачного боя. Уже мальчики, отделившиеся в сторону, работали на расстоянии, заманивая прохожих к бою. Кулачный бой крепчал. Толпа росла с небывалой быстротой, и в воздухе был слышен какой-то зловещий гул увесистых кулаков и от падения тел, не устоявших от меткого удара, обессиленных бойцов. Вдали от боя, там и сям, стояли жены, сестры и матери бойцов, которые то всхлипывая, то плача и осеняя себя крестным знамением, дополняли густоту красок сурового мотива картины. В этот последний день масляной бой был ужасный. Гора брала верх над Замостьем и сильно теснила своих противников по льду, по направлению к городу, оставляя на брошенном ею месте избитых и полуживых людей.
Замостьем, видимо, начинала овладевать паника. Многие бежали с места битвы по направлению к городу и, встречая знакомых, спешили сказать: «Замостье бьют», или: «Гора взяла». Такие возгласы возбуждали энергию и злобу у прохожих, которые, забывая цель своего пути, поворачивали в сторону и бежали ожесточенными , как бегут на пожар, по направлению к кулачкам. Казалось, в городе творилось что-то необычайное, и обитатели «Замостья» действительно испытывали поражение от какого-то жестокого неприятеля, с которым не далее полудня того же дня делили хлеб-соль и родственные чувства. Уныние, соединенное со страхом, охватывало душу каждого обывателя, случайно делавшегося свидетелем этой кулачной расправы. Особенно же удручающе влияла эта картина на женщин и детей, которые бежали и плакали…
У Павла уже давно побывали его агенты и обстоятельно пояснили ему тяжелое положение Замостья. Одетый, по обыкновению, в простой костюм, Загиба шел медленно по улицам города, держа путь к месту кулачек. Но его давно уже ожидала по пути Уля и, присоединившись к нему, начала просить, чтобы он в этот день не шел на кулачки.
- Павел Ильич! Заря ты моя румяная! Не ходи ты сегодня на кулачки, – умоляла его Уля, останавливая Павла Ильича не раз и не два на пути его.
Павел Ильич утешал Улю, но не переставал приближаться к месту боя. Уже слышен был гул толпы, возгласы и стоны, время от времени потрясавшие воздух. Уля крепко держала его за руку, но ее слезы и просьбы, как видно, начинали надоедать ему. Но вот вдали показалась густая толпа народа. Точно одно чудовищно-бесформенное тело, с тысячью голов, волной колыхалось, передвигаясь по льду то в одну, то в другую сторону, и стонало.
Вокруг этого чудовища, освирепевшего до безумия, то там, то здесь сидели и полулежали в снегу обессиленные бойцы с окровавленными лицами и с помятыми боками. В это время один из убегавших от побоища, увидавши Загибу, быстро подбежал к нему.
- Павло, помоги, наших бьют! – крикнул он Загибе.
Недоставало этих слов отчаяния и мольбы, чтобы заставить Павла Ильича ринуться в бой, отдавшись борьбе бесповоротно. Он быстро оттолкнул Улю, державшую его за руку и смешался с толпой, походившей на черную грозовую тучу…
На сцену нашего повествования является новая личность, сыгравшая трагическую роль в общем течении рассказа.
На Сумской улице дом, ныне состоящий под номером двадцать четвертым, в то время принадлежал дворянину Броневскому, который продал свое имение, купил в городе вышеуказанное место, выстроил дом, и теперь существующий, в один этаж, и открыл каретное заведение. Это был в то время среди дворян своего рода феномен.
Посредине двора было устроено несколько кузен, а по сторонам их – мастерские. Каретное заведение Броневского в то время было лучшим заведением на весь юг России. Его работы кочь кареты и коляски конкурировали с экипажами венскими. У этого Броневского в числе многих рабочих и мастеров жил знаменитый кузнец Захар Сорока, который известен был не только как искусный кузнец но и как силач, отличавшийся в кулачных боях.
За последнее время Захар Сорока почти не участвовал в кулачных боях. Его однажды одолел Павел Ильич и, сваливши под себя, не дал ему возможности вывернуться и стать на ноги. Этот поединок поколебал его славу и, среди народа ходил о нем такой рифмованный отзыв:
Силен был Захар Сорока,
Пока Павло не дал ему урока…
Уязвленное самолюбие силача развивало в душе его затаенную злобу к сопернику Загибе. А к этому инциденту присоединилось еще и чувство любви к краснощекой Ульяне Стряпухе. Он задумал послать к ней сватов и получил на свое предложение отказ.
Самолюбие Захара вспыхнуло неугасимым пламенем. Он увидал в лице Павла Ильича какое-то чудовище, которое легло на его жизненном пути и отнимает у него не только славу как бойца, но и право на счастье с любимой женщиной. Не трудно вообразить, что при таких неудачах способен сделать полудикарь-человек, стоящий по развитию на первых ступенях цивилизации!.. Что способен сделать кузнец Сорока?..
Захар Сорока порешил в душе своей убить Загибу и этим путем достигнуть двух целей: жениться на Ульяне и опять сделаться первым силачом на все Замостье.
Сорока, как и Загиба, по месту жительства принадлежал к Замостью, но на этот день перешел на сторону Горы, предложивши ей помочь одолеть Загибу. Такое предложение было принято Горою с восторгом, и в день кулачного боя, который мною описан выше, Захар сидел, не тратя напрасно своих сил, в стороне от боя и выжидал появление Загибы.
Движимый неудержимою злобою к ненавистному сопернику, Захар Сорока выковывал себе в кузне короткий и тупой гвоздь, с большою, в старинный пятак величиною, шляпкою грибовидной формы. Зажимая тупой конец такого гриба в кулак и таким образом делая на вершине кулака металлическую площадь, боец пускал это орудие в ход и, конечно, оставался победителем, хотя такие орудия шли вразрез с правилами кулачного боя и строго запрещались кодексом кулачного права. Но вот Павел Ильич, как мы уже знаем, вступил в бой, и радостный крик замостцев огласил воздух. Несмотря на усталость и на одолевавшее толпу уныние, энергия у всех сразу поднялась и силы возросли до maximum’a. Гора заколебалась и быстро начала слабеть. Многие уже оставили место боя и убегала. В это время Захар Сорока вмешался в толпу и со свежими силами вступил в бой. Направо и налево от его руки валялись люди, по которым, точно по мосту, шла толпа, напирая вновь с неудержимой силой на Замостье. Еще два-три поворот, еще один-два удара и… Павел Ильич Загиба, как сноп, падает от руки Сороки. Гора залилась восторгом рукоплесканий, а Замостье, пораженное паникой и потерявшее своего любимого и надежного бойца, с криком и визгом стало разбегаться. Сорока мгновенно скрылся. Еще три-пять минут, и бойцы Замостья разбежались; бойцы Горы разошлись по домам, и только избитые и изученные лежали там-сям на льду и свидетельствовали о том ужасном спорте, который многим стоил жизни, без права на премию и награду… Среди этих избитых лежал, едва дыша, и Павел Ильич Загиба. Уля первая прибежала к своему любимцу и, преклонив перед ним колена, обливала его горючими слезами. Несколько человек студентов из его приятелей, которые все время следили за ходом кулачного боя, унесли своего товарища домой для попадания медицинской помощи.
На другой день по городу разнеслась молва, что на кулачках убили какого-то человека. В то время слухи о происшедшим, подобно бактериям, размножались с быстротою, достойною удивления. Но среди бессмысленной кучи вымыслов была и правда, которая называла по именам и Загибу, и Сороку-кузнеца, но так как ложь своим количеством вариантов и вымыслов превышала, и спустя два-три дня о происшедшем перестали говорить.
Между тем, Павел Ильич не на шутку слег в постель и, несмотря на тщательный за ним уход товарищей и Ульяны, а также на медицинскую помощь, не выздоравливал.
Пролежав три недели, он в конце февраля месяца умер на руках своей Ули, прося ее молиться о нем…
Прошло пятьдесят лет со дня смерти Павла Ильича Загибы. Но и полвека времени не изгладили в душе моей симпатичный и достойный любви образ этого талантливого, доброго и с откровенной душой казака, как он любил себя называть. Доживая дни свои среди современной молодежи и слыша нередко ее сетования на жизнь и отчаянные решения крайнего пессимизма, мне приходят на память взгляды на жизнь этого веселого и трудолюбивого бедняка, который любил науку и жизнь, – одною силою ненадломленного чувства. Путь его жизни был устлан надеждами на все хорошее и благое. И становится жать, что эти люди энергии и жизни сошли со сцены.
А что же сталось с Улей?..
Много и много лет спустя, в одну из пятниц великого поста, у паперти одного из храмов Харькова, мне пришлось встретиться с Ульяной Васильевной Стряпухиной, бывшей невестой Павла Ильича Загибы. Среди целого ряда торговок, продавших бублики людям, выходившим из храма посте исповеди, стояла у лотка пожилая женщина, а возле нее стояла лет шестнадцати красивая девушка, с ее же лотка предлагавшая бублики говельщикам. Эта девушка сильно напоминала мне Улю в те годы цветущей молодости, когда я знал ее невестой казака Загибы. И только это разительное сходство заставило меня обратить особенное внимание на стоявшую возле нее старую женщину. По чертам лица этой женщины я узнал, что это была сама Ульяна Стряпухина, мать молодой девушки, стоявшей возле нее.
Я разговорился с нею, и она не замедлила восстановить в своей памяти меня таким, каким она знала меня в лучшие дни своей молодости.
- Ну, как же вы поживаете? – спросил я Ульяну, обрадованный неожиданной встречей со старой знакомой.
- Да что тут говорить? – ответила мне Ульяна на малороссийском языке. – Что было – то прошло, да только не забылось. Вот видите, как я состарилась? На старую репу похожа стала. А что же поделаешь? Надо жить когда бог того требует!…
- Вы замужем? – спросил я и посмотрел на молодую девушку, стоявшую возле меня.
- Нет! После Павла Ильича какое же замужество? – вздохнув глубоко, ответила мне Ульяна, и слезы брызнули из ее глаз.
- А это, вероятно, сестра ваша? – спросил я, указывая на молодую девушку.
- Нет! Это моя родная дочь! – ответила Ульяна и, помолчав немного, прибавила: – мы теперь вдвоем с нею, как пара голубков, жизнь проводим.
У всякого своя доля, да кто ни знае,
У всякого своя доля, да кто ни мае.
- Да, так вот и мы с нею – ни доли, ни боли не знаем, и только бог наша надежда! А що було – то загуло, – закончила Ульяна малороссийской фразой и села у своего лотка, призадумавшись.
Мне жаль стало тревожить ее старые и все еще не зажившие раны. Я поспешил
он получал полную отставку и мог возвратиться на родину. Но через промежуток такого времени, по истечении четверти века, когда же он находил на своей родине? А если мы примем во внимание, что в то время войны были гораздо чаще и на Кавказе война нескончаемо тянулась целые годы, станет понятным, что через двадцатипятилетний период времени немногие оставались в живых из тех, которые были сданы в солдаты. Такая тяжелая воинская повинность развила среди народа стремление всеми правдами и неправдами обойти ее. И вот, по существующим тогда правилам, желающие поступить в солдаты могли добровольно продавать себя вместо человека, состоявшего на очереди. Семья, желавшая поставить солдата вместо сына, стоявшего на очереди, нанимала такого человека за двести или триста рублей, который добровольно за эту сумму шел в солдаты. Нет сомнения, что в большинстве случаев добровольно шли в солдаты или, как их называли в Малороссии, «наймиты», люди, которым нечего было терять, которые ославили себя дурным поведением и составляли сорный элемент среди трудолюбивых обывателей городов и деревень. Среди них были и такие, которых сельские общества принуждали уходить из их среды и даже содействовали приисканию для них нанимателей. Это были непробудные пьяницы, завзятые воры, конокрады, буяны, истязатели своих жен и детей, заподозренные в поджогах, – словом люди самой низкой нравственности и потому во всяком роде нежелательные члены как городских, так и сельских обществ. В виду этого нанять за себя «наймита» – это еще не значило успокоить себя, так сказать благополучно покончить дело с этим вопросом. Договор с наемщиком составлял всегда только пролог к многократной трагикомедии. Трагикомедия начиналась за две недели до сдачи наемщика в рекруты. Кроме условной суммы денег, наемщик всегда выговаривал себе право, перед сдачей его в рекруты, покутить и пображничать на счет своих нанимателей. Он ходил по городу или по селу в сопровождении семьи, нанявшей его с музыкантами, которые должны были играть на всяком месте по его приказанию. Наемщик, полупьяный, шатаясь по улицам города, заходил в мелочные лавки, в кабаки, в ренсковые погреба и требовал для себя вина, закуски, водки и разных лакомств. Кой-что ел пил, кой-что только пробовал и вслед за сим разбрасывал все по полу и по улице. Нанявшие его в рекруты обязаны были беспрекословно платить за все деньги. Всякая возникшая в его голове мысль мгновенно приводилась им в исполнение. Вдруг среди площади желалось ему сесть и играть в карты. И все его провожавшие садились и играли с ним в карты. В другом месте ему желалось, чтобы под скрип музыки все его провожатые плясали «журавля». И танцы начинались. Проходя на базаре мимо лавки с черным товаром и увидавши стоящий у лавки на земле, в большом и мелком жбане, деготь «наймит» прыгал в жбан и, стоя в дегте по косточку, плясал в нем под музыку, расплескивая деготь во все стороны. Провожавшие его должны были беспрекословно платить за разлитой им деготь. Иногда причудливые требования и выдумки наймита доходили до таких размеров, что переходили в издевательство над членами семьи, его сопровождавшей. Нежданно-негаданно вдруг наймит брал в лавке котелок, в котором косари варят себе кашу, или деревянное ведро, надевал их ей идти вперед приплясывая. А затем он сам снимал с головы котелок или ведро и разбивал его об землю. И так каждый день, и так целые две недели, до сдачи наймита в солдаты. За эти роковые и полные скорби две недели, семья настолько ослабевала от нравственных страданий, что требовались месяцы, чтобы страдальцы пришли в прежнее положение. За эти две недели израсходовались и физические силы членов семьи, так как не было ночи, которую они могли бы провести в безмятежном сне. Я уже выше сказал, на каком низком нравственном уровне стояли вообще все наемные в солдаты. И потому им нельзя было довериться ни в одном слове.
Семья, нанявшая «наймита», не могла поручиться, что он, нагулявшись на ее счет доотвала, не уйдет от нее, пользуясь темнотой ночи и отсутствием должного за ним надзора. Поэтому каждый из семьи по очереди не спал по ночам и сторожил его.
«Наймит» представлял собою полную распущенность и разнузданность нрава, доведенного до болезненных проявлений воли и разума. Среди диких индийских племен есть и теперь еще обычай приносить своим богам человеческие жертвы. Человек, предназначенный в жертву богам, обыкновенно пользуется полной свободою, и ему всякий из верующих обязан все давать по его требованию, все ему прощать за сделанную обиду и служить ему, если он того потребует. Его кормят, поят до отвалу, он считается по их верованиям «табу», то есть «богами избранным» и потому не прикосновенным, священным… Нечто подобное представлял собою «наймит» во всей Малороссии, и старожилы Харькова, думаю, помнят хорошо этот тяжелый и полный безобразия тип наемного рекрута, который в те годы нередко оглашал улицы городов и сел своими криками и безобразным разгулом…
Что касается воспитания и образования юношества, то среди именитых и богатых дворян оно шло по раз намеченному шаблону. Помещики отдавали своих дочерей в институт или же в частный пансион. Мальчиков отдавали преимущественно в кадетские корпуса, так как военная карьера считалась лучшею и более достойною для дворянина. Юношей иногда отпускали в университет или же определяли в привилегированные учебные заведения, судя по рангу и чину. До поступления в какое-либо учебное заведение как мальчики, так и девочки пользовались домашним воспитанием под ферулой гувернеров, гувернанток и различного рода педагогов и бонн, преимущественно иностранного происхождения.
Богатое купечество в деле приобретения культуры не мало обязано дворянству. Купцы всегда старались подражать именитым и богатым дворянам и с них брали примеры, по крайней мере для упорядочения внешней стороны, по крайней мере для упорядочения внешней стороны своей жизни. Поэтому нередко можно встретить, что едва грамотный купец, сам живший простою жизнью, вел своих детей на дворянский лад, и радовался, когда сын кончал университетский курс образования. Купеческие дочери воспитывались в лучших пансионах или в институте. В доме обстановка была по последней моде: на кухне всегда был повар, в приемной – лакей для доклада; элегантные экипажи и вечера с музыкой дополняли картину домашнего быта купца того времени. При детях были гувернеры и гувернантки, а французский язык без умолку был слышен среди возраставшей молодежи. Но если помещик, по словам поэта, наблюдал жизнь «из окна своей кареты», то купец изучал жизнь дворян сидя у дверей своей лавки. Он в большинстве случаев брал от дворян лишь внешнюю сторону их пышной жизни, упуская то, что достойно было подражания. При этом нельзя не отметить, что в среде купечества лежала тяжелою тенью наклонность подражать дворянству в его крепостнических отношениях к людям, стоявшим по положению своему в зависимости от него. Я говорю о приказчиках и о прислуге, которые проводили дни своей жизни под тяжелым ярмом гнета. Семья русского купца, по существу своему всегда гостеприимная и хлебосольная, добродушная и отзывчивая нередко нравственно калечила себя, теряя свои незаменимые и дорогие качества.
В те годы содержать частный пансион было весьма выгодно профессиею. Для того, чтобы отдать сына или дочь в пансион на полное содержание, нужно было платить в год до тысячи рублей. При этом требовалось, чтобы пансионер или пансионерка принесли в дар пансиону: одну серебряную ложку, нож и вилку, шесть салфеток и две скатерти. Если мы примем во внимание, что в пансионе, имевшем хорошее реноме, было не менее двухсот учащихся, то у нас получится в один раз двести пар ножей, двести серебряных ложек, сто дюжин салфеток и более тридцати трех дюжин скатертей. Не следует забывать, что в пансионах серебряные ложки заменялись мельхиоровыми, ножи нередко попадались без колодочек, вилки – без остриев, салфетки были убраны латками, а скатерти имели большие вставки. Интересно знать, где хранилась эта масса новых ложек, ножей, салфеток и прочего инвентаря, приносимого в дар пансиону учащимся?..
Помещики обыкновенно давали в услужение для своих детей мальчиков или горничных из крепостных своих крестьян и, кроме того, ежегодно к рождеству и к празднику пасхи присылали целыми подводами масла, гусей, уток, муку, сало и прочие продукты деревенского хозяйства. А дети купцов привозили в подарок начальникам пансионов головами сахар, фунтами чай и кофе, столовое вино, конфеты, пряники, пастилы разных сортов и даже варенье домашнего приготовления. Если ко всему сказанному мы прибавим, что ежегодно именины начальника или начальницы пансиона сопровождались дорогими подарками от учащихся, которые преподносились с затаенным желанием ценностью своего подарка превзойти своих товарищей и подруг, – то перед нами сама собой нарисуется картина целого вороха приношений на алтарь жрецам Минервы.
Что касается учения и жизни учащихся, то они учились и жили согласно требованиям педагогии, гигиены и медицины.
Для большинства городских учащихся семидневная неделя превращалась в четырехдневную. Затем следовали: именины бабушки, дедушки, тетеньки, дяденьки, маменьки и тятеньки, которые строго соблюдались как великие дни праздников. Особенно частные перерывы учения были в обычае в женских пансионах. То от усиленной умственной работы болела голова, то развивался упадок сил и годовой врач дома оставлял барышню дома дня на два более того. Но такое уменьшение числа дней в неделе никогда не влияло на успехи учениц и на переводные экзамены. Все знали свои уроки и блестяще отвечали на экзаменах. Никто не оставался на второй год в том же классе.
Пансионов было много, но я остановлюсь на двух лучших пансионах, которые в то время пользовались особенным доверием и любовью со стороны жителей города. Пансион мадам Ларенс и пансион Метленкамф – это были два лучших частных пансиона. Нет сомнения, что лучшим женским училищем того времени бесспорно был институт благородных девиц. При всей замкнутости какого-то монастырского режима, в нем строго выполнялась учебная программа, находясь под непосредственным наблюдением инспектора по учебной части. Окончившие курс девицы выходили со знанием истории литературы, истории всеобщей и русской, закона божьего и французского языка. При этом большинство из институток прекрасно играли на рояли.
Две вышеупомянутых частных пансиона в своем направлении, а также в преследовании целей в деле воспитания, не отличались один от другого, хотя, казалось, шли по разным дорогам.
Пансионы эти не придавали особенно важного значения научным знаниям. Но пансион Ларенс обращал особенно строгое внимание на практическое знание французского языка и на умение девиц держать себя в обществе, выражать свои чувства, говорить, ходить, встречать гостей и прощаться с ними. Затем, придавалось весьма серьезное значение умению красиво одеться и вообще ревниво смотреть за своей внешностью. Пансионерки пансиона Ларенс были тщательно удаляемы от всего, что могло их навести на ненадлежащие мысли или на приобретение каких-либо слов, принадлежавших к лексикону девичьей или кухни.
Каждое утро девица, вышедшая вполне одетою из дортуара или приехавшая из дома родителей как полупансионерка, прежде чем войти в общий зал или в класс, должна была представиться начальнице для надлежащего ее осмотра. Малейшее упущение в костюме ил легкое отношение к своей физиономии подвергало девицу строгим замечаниям со стороны заботливой maman.
Все объяснения и разговоры шли на французском языке, и потому, спешу сказать, воспитанницы пансиона Ларенс, после институток, считались хорошо умевшими говорить по-французски.
- Ах, милая, – говорила maman, осматривая лицо и костюм девушки! Я уже не раз говорила тебе, что это очень неприлично иметь девице усы. А у тебя – посмотри – опять начинают пробиваться усы. Надо их выкатывать мякишем из хлеба.
- Простите, maman! – робко отвечала сконфуженная девица. Очень больно вырывать волоски, хотя бы хлебом.
- А что же делать, моя милая? Для того, чтобы быть хорошенькой, можно претерпеть и не такие муки.
И ученица уходила сконфуженною.
- А ты, моя дорогая! – обращалась начальница к другой воспитаннице: – что это у тебя брови, точно щетина торчат? Надо их приглаживать как можно чаще и даже фиксатуарить.
И девица делала низкий реверанс и преклоняла свою голову в знак покорности.
- А с тобой, моя милая, я уже не знаю, что и делать, – обращалась начальница к девице, приехавшей из дома родителей. Он тебе совсем не идет. У тебя круглое лицо, и потому тебе надо убирать свою голову высокой прической, а ты , напротив, украшаешь ее круглой кренировкой. И выходит, что ты из своей головы делаешь какую-то тыкву. C’est á mauvais ton![39].
- Да это, maman, моя горничная не умеет чесать! – смело и не задумываясь отвечает девушка. – Она такая дура!
- Что, что, что? Ай, ай, что ты говоришь? Вообще, mes chers enfants[40], помните и не забывайте! Девица должна строго проявлять себя во всей ее жизни, во всех ее движениях. Девица должна быть скромна, тиха, почтительна и наивна как безгрешное дитя, как неземное существо. Ее реверанс, ее улыбка или неожиданно зародившейся румянец на щеках – все ценится дорогою ценою. Если девица не будет знать, где находится город Стокгольм, или забудет табличку умножения – это все ей простят. Но если она будет проста в обращении, если она не будет уметь говорить по-французски или не сумеет одеть и причесать себя так, как ей идет к лицу, – это никогда ей не простят. Такая девица весьма легко может остаться в девушках навсегда, несмотря даже на свое богатство… Помните это и идите заниматься, а в пятницу все приезжайте вечером ко мне на soiree avec manoeuvre[41].
Девицы, выслушавши наставление своей начальницы, делали почтительнейший реверанс, целовали руку своей maman и уходили в класс, в ожидании своих учителей.
M-me Ларенс приказала своим воспитанницам съехаться к ней в пятницу вечером на soiree avec manueuvre.
Считаю необходимым пояснить смысл и значение этих вечеров, которые назначались, время от времени, раза два-три в продолжение учебного года.
На такие вечера съезжались воспитанницы одетыми, хотя в платьях не первой свежести, но по-бальному.
Начальница встречала их в большом рекреационном зале и заставляла проделывать различные приемы из светской жизни.
- Ну, милая, – говорила начальница, обращаясь к воспитаннице, – в вашем доме сидит гость молодой человек. Вы должны выйти к нему, чтобы провести с ним время. Как вы это должны сделать?
И девица, как бы входя в зал из другой комнаты, шла по направлению к начальнице, делала реверанс и садилась на какой-либо стул.
- Так! Хорошо! – говорила начальница, поощряя свою понятливую воспитанницу.
Но вот вошла в зал только что приехавшая из дома на вечер девица.
- Что это, что это? У вас, моя дорогая, слишком открыто декольте. Так невозможно! Вам надо непременно надевать «modestie». Помните навсегда: «la beaute – coute un million, mais la modeestie n’a pas de prix»[42].
Но в это время одна из девиц, говоря с другою, грубо толкнула ее в сторону.
- Что ты, милая? Разве можно так поступать?
Надо скрывать свой нрав и уметь не быть, а казаться. В этом задача жизни девушки…
Затем девицы то будто провожали гостя, то будто давали согласие на мазурку, то садились играть, по просьбе кавалера, то встречали и видались с бабушкой или дедушкой.
Проведя в таких упражнениях несколько часов, девицы разъезжались по домам и на другой день, в субботу, уже не приезжали на занятие, так как были очень уставшими…
Если воспитанницы пансиона Ларенс совершали попарно прогулку по городу, то классные дамы, сопровождавшие их, не переставая следили за всем, что совершалось на улице, и отклоняли внимание девиц от всего, что считалось неприличным или неуместным для взоров воспитанниц.
- Medames! – обыкновенно говорила классная дама своим девицам, проходя мимо длинного забора, – не смотрите на забор!
Если где-либо на тротуаре молодой парень заигрывал с торговкой, немедленно делались распоряжения:
- Medames! Не смотрите в правую сторону! – Пансион Ларенс был излюбленным пансионом дворян и богатого купечества, так как институт не мог вмещать в себе всех девиц, желавших поступить. Его начальница особенно пользовалась любовью со стороны купечества за то, что она никому из них не отказывала в добром совете. Просила ли мать какой-либо воспитанницы научить ее дочь, как она должна была отнестись к своему жениху при первом его визите в их дом; нужно ли было уговорить окончившую курс воспитанницу не отказывать в руке такому то жениху, – эта почтенная и добрая воспитательница всегда с участием относилась к просьбам матерей ее питомиц и силою своего влияния на них успевала удовлетворить желания как матерей, так и милых их дочерей.
Совсем другого направления, но не менее полезного и разумного, был пансион м-м Метленкамф. В программе пансиона Метленкамф высказывался дух национальности, к которой принадлежала почтенная воспитательница. Как немка, она обращала менее внимания на внешний облик воспитанниц и не придавала строгого значения некоторой шершавости манер их и плохому умению говорить по-французски. Зато на науки у нее было обращено более тщательное внимание. В ее пансионе воспитанницы получали по пяти из закона божьего и из чистописания.
- Ах, моя милая! – говорила maman своей воспитаннице, рассматривая ее тетрадь чистописания. – Разве можно так плохо писать? Ты знаешь, что хороший почерк для девицы – это лучшее ее приданое. Какая же из тебя будет жена, если ты не будешь уметь записывать даже белье своего мужа? Не хорошо, не хорошо! Иди и учись лучше!
И сконфуженная девица уходила, проливая слезы на плохо написанную страницу своей тетради.
Затем обращалось внимание на прилежное занятие математикой.
- Математика, математика и математика, мои милые дети! – говорила не раз всем своим питомцам начальница. – Учите сложение и вычитание; без них вы будете плохие жены. Какими вы будете хозяйками, когда не сумеете сосчитать базара? Помните немецкую поговорку:
Wer sein Rechnung nicht weis,
Der hat kein Preis![43]
В пансионе Метленкамф было воспитанниц не меньше числом. Чем в пансионе Ларенс. Но, они, по богатству и по происхождению принадлежали к классу менее значительных и зажиточных людей. Среди учащихся этого пансиона были дети чиновников, учителей, духовенства, военных и помещиков, имевших до ста душ крестьян. Но как бы ни было, а в этом пансионе так же, как и в пансионе Ларенс, усердно занимались музыкой, и многие девицы весьма осмысленно играли на рояли. Отличительною же чертою этого пансиона были обычные литературные вечера, без публики и даже без посторонних посетителей. В те годы так много было талантливых наших русских писателей, которые, как бы сговорившись, дарили публику поочередно то одним, то другим художественным произведением. На вышеупомянутых литературных вечерах все эти произведения читались учителем русского языка, с комментариями и с пояснениями характеров действующих лиц и героев повести, романа или поэмы. И эти разумно придуманные вечера не проходили бесследно. Они сыграли свою благотворную роль в деле времени и вошли в обычай, даже в привычку препровождения времени, о чем я буду говорить ниже.
Но, как и все на свете, не без комических сторон были эти два, друг другу противоположные, пансиона. В пансионе Ларенс, в тех видах, чтобы всякая девица представляла из себя Mignonne, как я уже сказал выше, преследовалось всякое слово, носившее в себе двоякий смысл. Так, например, нельзя было девице говорить: «C’est le fils du second lit»[44]. Она должна была или избегать этой фразы или же, в крайнем случае, говорила так: ««C’est le fils от второй мамаши». В пансионе Метленкамф, напротив, эта фраза произносилась также по-французски, но с другим окончанием, по-русски. И вот, в те годы циркулировал такой анекдот, который, конечно, не может быть принят как характерный для всех девиц, но тем не менее достойный быть занесен на страницы моих воспоминаний.
Две подруги и приятельницы, но учившиеся не вместе, а в этих двух пансионах, разговаривая между собою, должны были употребить вышеприведенную мною фразу.
- Ах, ты знаешь, Полина, Гришу Шумова? C’est le fils от второй мамаши? – спросила однажды воспитанница m-me Ларенс свою подругу – воспитанницу m-me Метленкамф.
- Ах, Нюся! Разве можно так говорить? – чуть не с ужасом возразила ей подруга. – Так никогда не говорят. Надо говорить: C’est le fils от второго марьяжа…
Из приведенного факта видно, что описанные мною два пансиона, хотя на первый взгляд и разнились в своем направлении, но, тем не менее, в деле воспитания оба преследовали одни цели…
Что касается пансионов для мальчиков, то таковых было много, но более выдающимися были – пансион профессора Якимова, помещавшийся на Змиевской улице, в собственном доме Якимова, где в настоящее время солдатские казармы, а затем пансион тоже бывшего профессора Сливицкого, помещавшийся на Сумской улице в доме, принадлежавшем ему, и, наконец известный всему купечеству г. Харькова пансион «Немца», помещавшийся в первое время своего существования в доме Зимницкого, ныне доктора Вышинсого, на углу Конторской и Рождественской улиц.[45]
Пансион Якимова шел в параллель с пансионом для девиц. В этом пансионе учились тихонько, не спеша, а между тем с успехом переходили из класса в класс на радость родителям и на пользу отечеству. Но этот пансион недолго существовал и был закрыт вследствие происшедшей в Основянском бору дуэли надзирателя Фейерейзена с учителем географии Филаткиным за красавицу жену Якимова. Пансион Сливицкого был наилучший пансион среди многих частных пансионов. В этом пансионе с успехом готовились для поступления в университет и нередко со славой выдерживали вступительный экзамен. Воспитанники этого пансиона были весьма благовоспитанны и достаточным развитием. Что касается годовой платы за полного пансионера, то таковая была очень высока, почему учащиеся в этом пансионе были преимущественно дети богатых дворян и купцов, готовивших своих детей как для поступления в университет, так и для других высших учебных заведений. Давно уже известно, что недостаточно иметь в руках благо, надо еще уметь воспользоваться этим благом. И потому немногие пользовались с успехом благами пансиона Сливицкого; но были и такие, которые злоупотребляли его доверием и свободой, какими пользовались воспитанники. Это повело к тому, что пансион терял доверие к себе и, наконец, должен был закрыться, о чем в то время многие жалели.
Но пансион «Немца» более других требует, чтобы на нем остановиться. О «Немце» ходили тогда легенды, будто он был привезен стариком Кузиным в Россию в качестве камердинера. По ходатайству Кузина он был записан на русскую службу и, получивши первый чин, получил право на открытие пансиона.
Ну что ж? Не привыкать нам стать
Себя в науку отдавать
Различным пришлым господам.
Учил француз нас пустякам,
Учил нас немец, грек и чех;
И мы, послушные, – для всех
Меняли облик свой природный,
Приняв свет мудрости негодной…
Это был человек высокого роста, худой, с желтым лицом, раздражительный, суровый на вид, с седыми, нависшими на глаза бровями и с весьма плохим мнением о русских детях. Он их открыто называл наглецами и бездарными животными.
«Die russishe Kinder das ist etwas unmögliches? Darum sie sind alle dummköpfig!»[46] – был его постоянный и обыкновенный отзыв о всех русских детях.
И вот этому лицу и было вручено воспитание русского юношества.
Бедное русское юношество!..
«Немцы», под сюртуком своим, у бокового кармана, имел пришитую пуговицу, на которой постоянно висела зеленая плеть, в роде собачьего арапника. Он сам преподавал немецкий и французский языки и чистописание. А потому не было дня, чтобы все классы не имели хотя по одному часу из его трех предметов. Но за каждую ошибку в ответ урока или за дурно написанную страницу он, не отходя от ученика, наказывал его плетью при всех, нагоняя этим на всех учеников и страх и слезы.
- Русска мальчишка только плетью и выучишь! – обыкновенно говорил он. – Когда ты вырастаешь большим, ты придешь ко мне и спросишь: где рука, которая меня била? я ее поцелую…
Как всякий человек, и он один раз в год бывал именинником. И вот, за неделю перед именинами, его жена, вечером, когда дети в рекреационном зале за общим столом сидели и готовили уроки для следующего дня, подходила к каждому ученику и говорила, чтобы ученик, когда поедет в субботу домой, в понедельник привез бы от родителей два рубля, так как такого-то числа будут именины «Немца» и потому положено купить ему в подарок от имени всех учеников люстру. Конечно, каждый год сообразно с ценою подарка менялась и цифра взноса. В субботу обыкновенно отпускали домой только тех учеников, которые за всю неделю не имеют ни одной единицы. Но в эту субботу были отпускаемы домой все ученики. Думаю, излишне говорить, что дети в понедельник с удовольствием спешили привезти ассигнованные для подарка два рубля.
Проходило время, и наставал торжественный день именин великого педагога.
В рекреационном зале вешался или ставился на стол подарок, и дети расставлялись у стен в шеренгу. С веселыми лицами ожидали дети прихода именинника, который не заставлял себя дожидать долгое время.
С насильственной улыбкой на устах являлся «Немец» и, получивши от имени учащихся подарок, целовал своими жесткими устами двух-трех учеников, и объявлял, что в этот день занятий не будет и потому всем дозволяется резвиться и играть. Ученикам в этот день давался десерт, стоящий из лесных орехов и мятных пряников.
Дети конечно, беспечно проводили день именин и были очень резвы и веселы до позднего часа ночи.
На другой день именин в обычный час начинались занятия, и пансионная жизнь вступала в свои права. Нет сомнения, что в каком-либо классе был и в этот день урок «Немца». И вот, если кто из учеников плохо отвечал, или лаже совсем не знал урока, «Немец», не задумываясь, брал его ворот куртки, перетягивал через парту и начинал нещадно бить плетью.
- А, ты, подлец, думал, что я за два рубля тебя и бить не буду! Ты хотел меня подкупить?..
И так далее на эту тему.
Такие поступки гуманного педагога не могли не дать плачевных результатов. Один из учеников, восьми лет, убежал из пансиона к полицмейстеру Серебрякову, который в то время жил на Екатеринославской улице, в собственном доме (впоследствии принадлежавшем купцу Запорожцеву), и показал ему свое избитое тело. Серебряков, бывши знаком с его родителями, принял участие в восьмилетнем страдальце и немедленно взял его из пансиона.
Но были и более серьезные факты, вызванные таким жестоким обращением педагога со своими питомцами. Был ученик Кочетов, который несколько раз жаловался родителям на суровое обращение с ним «Немца». На его жалобы не было обращено никакого внимания. Он начал умышленно воровать. Пропала со стола серебряная ложка. Но на эту пропажу не было обращено должного внимания. Тогда сразу пропадают три ложки. Поднялись самые строгие розыски и допросы среди прислуги. Как я уже сказал выше, дети помещиков нередко имели при себе мальчиков из своих крепостных для услуг. На одного из таких мальчиков и пало подозрение в воровстве четырех ложек.
Мальчик – Филатка – был до утра заперт в сарай с тем, чтобы отправить его в полицию для допроса под ударами розог. Узнавши это, Кочетов сам пришел к Немцу, и заявил, что ложки украдены им и спрятаны там-то. Его признание оправдалось на деле, и ложки были отысканы. На вопрос, для чего он это сделал, Кочетов отвечал, что этим он желал вынудить «Немца» прогнать его из пансиона.
Такой факт не испугал «Немца». Великий педагог не унимался и по-прежнему давал ход своей плети.
И вот, однажды из слухового окна крыши дома, занимаемого пансионом, показался зловещий дым. Прислуга бросилась на чердак и нашла там костер из вороха щепы и бумаги, из которого языки пламени подымались до стропил крыши. К счастью, пожар был во-время захвачен и потушен домашними средствами. По расследовании, оказалось, что два брата Тахтарумовы, из Тифлиса, писали неоднократно родным, чтобы их взяли из пансиона, так как «Немец» бил их немилосердно. Но на их просьбы не было ответа. И вот, чтобы найти возможность быть взятыми из пансиона, они придумали поджечь дом и этим освободить себя от невыносимого педагога.
И несмотря на вышеприведенные факты, пансион существовал весьма долгое время, меняя квартиры и плети, но не меняя своих отношений к детям.
Принимая во внимание, что большинство учащихся были дети весьма богатых родителей, как дворян, так и купцов, плативших содержателю по пятисот и более рублей в год, нельзя не признать, что все это характеризует нравы того времени, а также говорит и о тех взглядах на воспитание детей, какие доминировали в то время даже в хорошем обществе…
Жизнь того времени как богатых, так и среднего сословия граждан города довольно резко отличалась от жизни городской текущих дней. В те годы жизнь была внутри дома, тогда как теперь жизнь вылилась наружу, ушла из дома в общественные учреждения, на общий раут, на публичную арену, под открытое небо, в сады и рощи, в громадные залы клубов и собраний.
В былые дни семья своего родного угла, своего дома. Каждая семья имела двух-трех молодых людей, происхождение и поведение которых им было хорошо известно. И эти избранники посещали семейные дома, и в кругу семьи за общим столом, у кипевшего самовара, под руководством хозяйки дома, нередко институтки по образованию, проводили время в беседе и чтении литературных изданий талантливых писателей.
Вечер нередко заканчивался игрою в фанты и даже танцами. Нередки были и музыкальные вечера, на которых дочери совместно с братьями и с молодыми людьми, допущенными в семью, играли на рояли в четыре руки или же составляли дуэты, трио и квартеты. Иногда можно было встретить молодого человека, который играл на двух и трех инструментах. Но, к сожалению, нужно сказать, что живопись и вообще рисование совсем не были развиты и как-то не пользовались симпатиями общества. И юноша, задумавший посвятить себя живописи и стремившийся в Академию художеств, переносил от членов семьи не мало неприятностей за свои намерения. Нужно было достаточно силы и воли и настойчивости, чтобы превозмочь все препятствия со стороны старших и выйти победителем.
В те годы художник и актер – это были родные братья, которых в обществе не любили, занятию которых не сочувствовали и которых избегали.
Но о художниках и их роли в описываемые годы я буду говорить в особой беседе, а потому возвращаюсь теперь к семейной жизни того времени. Тогдашние девицы, всегда строгие и чопорные, в семье своей, среди родных и в кругу двух-трех избранных были просты и радушны, не пуская в ход тех уроков «хорошего тона», какими их с такой щедростью наделяли в пансионах. Почти у каждой барышни того времени был альбом, в который, по ее просьбе, подруги, знакомые и молодые люди писали стихи, в которых изливали свои чувства к той, которая пленила их сердце.
И каких только стихов в тех альбомах не было! Здесь был и четырехстопный ямб, и хорей, и амфибрахий, и даже александрийский стих. Все было годно, все шло в дело и помогало сердцу излить свои чувства. Иногда можно было встретить в альбоме даже рисуночки. То над крестом склонилась плакучая ива. А под рисунков стихи:
Я сердце свое здесь похоронил.
А та, которую я пылко так любил,
Меня зачем обворожила,
Зачем навеки погубила?..
То на странице чистенько нарисованы две голубки, которые, не стыдясь публики, целуются. А стихи дополняют картину:
Я не умею рисовать,
Зато любить до гроба я сумею.
Прошу меня не обвинять.
Что чувства высказать не смею…
А вот стихи, имеющие недосягаемую глубину чувства:
Чернилом черным я пишу,
Но и оно со временем сотрется.
А любовь моя к тебе
В вечность пренесется…
Есть стихи, которые полны детского наивного чувства:
На последнем сем листочке
Напишу четыре строчки
В знак почтенья моего
Ах, не вырвите его…
На задней политурке альбома, иногда на самом углушке, можно прочесть такое стихотворение:
Кто любит более тебя,
Пусть пишет далее меня.
Или же неожиданно можно встретить такого содержания стихи:
Quelque chose[47] – что-нибудь,
А кто писал – не забудь…
А под стихами какие-нибудь инициалы, например: А.С.В.Г. и много, много точек.
Нередко на пяти и более страницах переписаны стихи Лермонтова и в большинстве случаев отрывки из поэмы «Демон». И если стихи писаны мужскою рукою, то, обыкновенно, читаем:
Я тот, кого никто не любит…
Я тот, чей взор надежду губит…
И прочее.
Если же стихи писаны женскою рукою, то в большинстве случаев выписаны были стихи из другого места поэмы:
Отец, отец, оставь угрозы…
И прочее.
Альбомы эти перечитывались много и много раз. Хранились они как нечто священное. Нередко можно было встретить бабушку, которая вечером у камина, собравши вокруг себя внуков и внучек и составляя собою центр притяжения, рассказывала о старине и вспоминала о первых днях своей весны. Говоря о лучших минутах своей жизни, она декламировала на память из своего альбома стихи, написанные ей тем, который пробудил в ней первое чувство любви и был ее женихом. Но злая пуля чеченца в кровавой схватке свалила его с седла, и вензель, вышитый невестой на черпаке, залит был кровью из его смертельной раны.
Огонек в камельке то вспыхивал, то будто погасал. Все с глубоким вниманием слушали добрую и сердечную старушку, у которой уже не одна крупная слеза скатилась из глаз по морщинистым щекам. А на часах пробило двенадцать. И вечера – как не бывало. Неужели пора уже расходиться? А слушать так хочется еще и еще… И жаль прервать задушевные минуты…
Интересны были семейные литературные и музыкальные вечера, которые были почти общи и обычны для большинства жителей города того времени. Я уже сказал, что в частных пансионах собирались по временам воспитанницы и преподаватель читал им избранные места из лучших литературных произведений того времени. Эти чтения способствовали развитию эстетической стороны жизни и привычки к книге. Конечно, пансионы в этом случае только подражали губернской гимназии, которая в то время была в Харькове единственным средним учебным заведением. В гимназии ни один урок физики не проходил без того, чтобы преподаватель не увлекся разъяснением какого-нибудь физического прибора, падающего хотя бы и в далеком будущем надежды на возможность устроить лучшее освещение или более скорое и удобное сообщение. Что же касается классов по истории и словесности, то преподаватели посвящали половину урока на чтение какой-либо главы из повести или рассказа кого-нибудь из выдающихся писателей. Мне не забыть почтенный и благородный образ учителя словесности харьковской губернской гимназии Д.П. Чирикова. Как он благотворно влиял на умственное и моральное развитие своих учащихся! Нередко, закрывая книгу и увлекся прочитанным в ней, он привлекал внимание учеников разъяснением смысла им прочитанного в романе или повести. И весь класс превращался в напряженное внимание. Ленивые и прилежные, даровитые и тупицы – все со вниманием слушали речь своего наставника, и в классе воцарялась невозмутимая тишина.
Так проходил незаметно час занятий, и гимназисты возвращались домой веселыми и жизнерадостными. (илл. 116)
Вечером в семьях собирались в кружок братья и сестры; приходили два-три знакомых юноши, и разговорам не было конца. В столовой, за чайным столом, под председательством матери-хозяйки дома или тетки, все спорили, кричали, доказывали и опровергали и, казалось, поднимались войной друг на друга.
Памятна мне семья председателя гражданской палаты Головкова и образ древней старушки, родоначальницы всей семьи. Она отличалась неимоверной добротой, веселым нравом и терпеливостью. Но и эта добрая и терпеливая старушка иногда не выдерживала этого завзятого спора. Однажды она неожиданно сняла с себя большой теплый платок и начала им из столовой выгонять всех нас в зал.
- Вишь, раскричались. Точно галки в метель. Будет вам споры-то вести. Марш все в зал да займитесь музыкой.
И все со смехом спешили уходить в зал от преследований бабушки.
Помню, как-то почтенная старушка, выгоняя нас в зал, нечаянно довольно внушительно ударила меня концом платка. Я ей же на нее пожаловался.
- Так тебе и надо! – ответила добрая старушка. Ты ведь озорник, в спорах сильнее всех кричишь. А ты, вот, лучше иди и садись за рояль да с Лелей сыграй мне увертюру из оперы «Вильгельм Телль». А то ведь я и в другой раз тебя платком побью…
Все смеялись такой резолюции строгого судьи. Я поцеловал ее морщинистую руку и немедленно ушел к роялю, чтобы приготовить ноты и место для ее любимой внучки Лели.
Неожиданно встает предо мной новое лицо, милая и добрая Леля, с которой мне так часто приходилось играть и делиться музыкальными впечатлениями. Где она теперь и сто с нею сталось? Но довольно воспоминаний. Они болезненны, как зажившие раны в сырую погоду…
Напрасно в памяти своей
Зачем будить воспоминанья?
- Не возвратить счастливых дней,
Не утолить души страданья,
И все, что сердцем пережито,
Пусть лучше будет позабыто;
Но в тайнике души печальной,
Как отголосок эха дальний,
Оно о прошлом говорит
И нотой скорбною звучит…
Нет сомнения, что одними семейными и интимными вечерами, которые составлялись из пятидесяти одних и тех же особ, общество того времени не могло считать себя удовлетворенным. И потому время от времени были назначаемы балы как в частных домах, так и в дворянском собрании. Балы, даваемые частными домами, были известны под разными названиями и в отношении убранства и роскоши характерно отличались друг от друга. Но оркестр всегда был бальный, струнный, и если, в исключительных случаях, приглашался военный оркестр трубачей, бал считался неудавшимся.
Дворяне и богатые купцы поочередно давали балы зимой; на каждый месяц можно было считать по одному балу. Затем были именинные балы, свадебные балы и, наконец, самые интересные и всегда блестящие по обстановке и костюмам были те, которые давались как дворянами, так и купцами по случаю совершеннолетия дочери, которое считалось с семнадцати лет, со дня окончания ее курса в институте или же в одном из описанных мною пансионов.
На описании одного из таких балов я и остановлю внимание читателей в следующей главе.
В сороковых годах жизнь была не так сложна, и потому жилось легче, чем теперь. Дворянство, при даровом труде своих крепостных людей, имело большие доходы со своих имений.
Купечество вело внутреннюю, преимущественно оптовую, торговлю, придерживаясь ярмарочной системы, характерное отличие которой состояло в том, что торговля шла хотя временно, но с сильно поднятой энергией, нервно и потому выражалась всегда в большом спросе и в большом сбыте. Такая торговля нередко вела к тому, что купец, со смыслом начавший свое дело, в три-пять лет наживал состояние, равное нескольким сотням тысяч рублей. Когда в жизни все улыбается, когда все дышит довольством и избытком, человек делается оптимистом и создает целый ряд разнообразных удовольствий. К числу таких удовольствий принадлежали балы, даваемые со специальной целью – ввести в общество совершеннолетнюю дочь-девушку. (илл. 088)
Держались этого обычая не одни богатые, но и люди с ограниченным состоянием, как дворяне так и купцы. Это был праздник первого дня девичьей весны. И с каким великолепием и с какою пышностью давались в этот день балы!
Как со стороны мужчин, так и со стороны дам для такого бала шли большие и сложные приготовления. Военные заказывали новую парадную форму. Особенно любили щеголять своею формою гусары, уланы и драгуны того времени. Не отставали от них и штатские, справляя себе весь новый костюм и выписывая из Москвы манжеты и нарукавники. Но более всех имели забот и хлопот по случаю предстоящего бала девицы и их мамаши. За месяц были рассылаемы пригласительные билеты на бал. Все дни месяца перед балом были поглощены приготовлением. Модистки были завалены работой. В мастерских горою на столах лежали дорогие материи, изрезанные в куски загадочных форм. Бархат, шелк, затканный серебром и золотом, атлас, тюль, газ, матовый зефир, золотой шнурок, перламутр, кружева и жемчужные нити – все в капризном беспорядке кокетливо лежало на столах швейных мастерских. Переливая радужным блеском, искрясь то там, то здесь на темных кусках бархата или на зеркальных поломах атласа, все эти драгоценные дары цивилизации горделиво кичились тем, что им предстояло украшать собою бюсты и талии девиц-красавиц. А в день самого бала, с самого раннего утра и до десяти часов вечера, не только первоклассные парикмахеры, но даже и цирульники были заняты уборкой дамских голов, завивкою голов кавалеров и бритьем благородных ланит почтенных мужей. Большинство девиц, бивших на грациозность талии, в этот день ничего не ели, кроме хлеба с чаем. Корсеты передвигались на самые крайние планшеты. Не желая, чтобы на бале ланиты пылали румянцем, барышни ели мел и пили по глоткам слабый уксус. Но вот наставал час выезда на бал. После долгих и томительных часов одеванья и уборки прелестной головки трибушонами и роскошным бандо из природных волос, переплетенных ниткой жемчуга или цепью из бирюзы, девушка, только легко накинув на плечи меховую шубенку, в открытой коляске ехала на бал стоя, с открытой головой, держась руками за пояс кучера.
Думаю, достаточно продолжительно, почтенный читатель, мы проводили время в залах и гостиных домов богатых и знатных обывателей Харькова. Боюсь, что роскошь обстановки и в жизни картинность ее и причуды моды могут наскучить. Боюсь еще больше и того, что, сосредоточив все свои воспоминания на людях богатых и знатных, окруженных престижем, я оскорбляю забвением тех из обывателей родного мне города, которые жили трудовою жизнью, встречались с радостью, отчасти с нуждою и горем и, стоя вдалеке от богатства и роскоши, рождались, старились и умирали, ютясь в тесных домиках и хатках, вокруг центра городской жизни. Довольствовались они теми скудными даяниями, какие давала им жизнь богачей, как избыток от барского стола. Эти обыватели города не были хуже тех, которым я посвятил уже достаточно места и времени. Мерцая в тиши, как жалкий свет лучины, они составляли собою большинство городского населения… Итак, оставим залы и гостиные роскошных домов и заглянем в домики и хатки обывателей города.
Там в роскоши и праздности палаты:
И люди там и стены там богаты…
Там места нет для труженика чувства:
Там все прикрашено, там все искусство…
Уйдем из этой лживой атмосферы
В приют труда и нищеты убогой;
Туда отворим мы с тобою двери;
И там душою отдохнем немного,
Среди труда и жизни простоты,
От этой жизни – лжи и праздной суеты…
В описываемые мною годы обыватели города делились на две половины, резко отличающиеся одна от другой. К первой половине принадлежали люди, одаренные то знатностью рода, то привилегиями сословий, то богатством. Но этой половины было меньшинство, хотя это меньшинство царило над другой половиной, составлявшей собой большинство населения города.
Тяжело жилось в Харькове этой второй половине населения его. Имея самые скудные права на благо жизни, а некоторые даже и менее того, мещане, цеховые, государственные крестьяне и, наконец, оброчные и на выкуп взятые купцами, крепостные люди всегда должны были быть настороже, так как привилегированные сословия – дворяне, чиновники и купцы – безнаказанно могли издеваться над ними, эксплуатировать их труд и даже подвергать побоям и телесному наказанию. Я уже упомянул выше о Стуколкине, который лечил простой люд от лихорадки розгами. Но такой произвол не составлял исключения в жизни этих многочисленных униженных и оскорбленных обывателей города. Для того чтобы жить покойно и не страдать от произвола сильных, нужно было раболепствовать перед этими сильными; нужно было унижаться, лгать, потворствовать, заглушать свое человеческое «я» и не протестовать ни против каких с их стороны насилий. Закажет ли помещик, богатый купец или чиновник кровельщику сделать ведро, слесарю – исправить замок, сапожнику – сшить сапоги, или подрядчику – построить дом, сарай или забор, – расплата за такой труд всегда зависит от произвола заказчика, который за мелкие работы нередко ничего не платил, а за крупные – платил по произволу ничтожными суммами, с бранью и оскорблениями. И, не боясь лжи, скажу без преувеличения, что расплата такой системы почти всегда оканчивалась тем, что подрядчик, получая по целым годам должную ему сумму, в конце концов недополучал нескольких сотен рублей и уходил от богатого жителя города с кличкою мошенника и плута.
Не менее тяжелою были жизнь людей, служивших у богатых и привилегированных обывателей. Я говорю о приказчиках, о молодцах и мальчиках, о рабочих и вообще о дешевой прислуге. Все эти труженики были в такой тяжелой зависимости от своих хозяев, что немногим отличались от крепостных людей помещика. Жалованья все эти люди не получали аккуратно, ежемесячно, как получают, например, чиновники; они, обыкновенно, получали по малой сумме и каждый раз выпрашивая как милости или подачки.
- На что тебе жалованье? – сурово спрашивал хозяин у просившего его приказчика или рабочего.
- Да надо бы, хозяин, себе пару сшить, отвечал приказчик.
- Пару сшить? Вот оно как. Франтить вздумал? Ну, это еще и подождать можно. Пойди-ка за прилавок да делай свое дело. А жалованье еще успеешь растратить.
И шитье пары откладывалось месяца на два. В другое время, вместо просимых двадцати рублей, хозяин давал только пять, и получивший их должен был оставаться доволен. Нередко, желая собрать порядочный куш денег , приказчик не брал полного жалованья по пяти и более того лет. Но когда делался расчет, то он по своему счету недополучал двух и трех сотен рублей. И все такие явления проходил без протеста и шума. О, русский человек! Слава долготерпению твоему…
Каждый двор богатого обывателя, был ли он купец или дворянин, в десять часов вечера запирался на замок, и ключ от ворот отдавался руки хозяина дома. Это вело к тому, что приказчики не могли никуда уйти из дома своего хозяина и должны были проводить длинные вечера осени и зимы в застеньях хозяйского дома. Но еще, что, сидя по вечерам в приказчицкой комнате, они не имели права не только хором петь, но даже в одиночку играть на гитаре или на гармонии, нарушая тем гробовую тишину хозяйского двора. Что же касается мальчиков и рабочих, которые помещались в людской, при кухне, то занятие музыкой запрещалось им со своею строгостью неограниченной власти. Приказчика, который вздумал бы заниматься музыкой, хозяин лишал места, как человека ненадежного и плохого торговца. Что же касается рабочего или мальчика, то на их головах без церемонии разбивалась гитара, балалайка или гармония. И так проходили дни за днями, и эти люди, чтобы чем-нибудь разнообразить вечера своего заточения, тайком играли в карты или шашки. Были и такие, которые, вынимая в потайном уголке из кармана бутылку с водкой, тянули из горлышка, надеясь, что каждый раз душа меру знает, сколько нужно выпить.
В дни когда в доме хозяина был бал или вечер, а потому ворота были отперты для гостей, эти люди могли уходить из своего заточения в город искать себе развлечения вне стен своей тюрьмы. Но пойти к товарищу-приказчику было невозможно, потому что хозяева строго следили за этим, чтобы предупредить возможность передавать цены и секреты торговли купцов.
С открытием весны жизнь этих людей становилась более сносною. Под предлогом «купаться» приказчики и рабочие уходили из дома вечером и возвращались к утру другого дня.
В то время существовали откупа, которые за городом, на известном расстоянии, имели кабаки и даже рестораны с продажею водки по дешевой цене. И вот в эти-то притоны свободы, за неимением лучших мест, где бы можно было провести время, стремились люди, у которых иссякало терпение и душа жаждала простора и веселья.
Кроме загородных кабачков, излюбленным местом препровождения времени были Куряжский монастырь, в восьми верстах от города, и Хорошевский монастырь, женский, в пятнадцати верстах. С самого раннего утра, с целью помолиться и провести целый день в липовой или дубовой роще, на берегу реки или у кристальных источников холодной ключевой воды, собирались в эти места целыми семьями.
Я уже сказал выше, что обычная жить на даче в те годы не было, хотя многие из богатого купечества имели загородные небольшие имения, состоящие из леса или сада, с необходимою усадьбой для приезда хозяев на короткое время. Такие места обыкновенно служили летом укромными уголками для справления именин или для пирушки с широким разгулом древних бояр русских.
Но все же владельцы таких уголков были люди зажиточные. Люди же с ограниченными средствами и бедняки томились в городе во время летних жаров, не имея на трех реках ни одной купальни, купаясь где придется, вместе с лошадьми и с рогатым скотом. Затем, изредка, два-три раза в лето, это люд позволял себе провести какой день в одном из вышеуказанных монастырей.
Для того чтобы отправиться на целый день в монастырь, в семье начинались сборы чуть не за месяц вперед. При этом оставлялась дружная компания из двух-трех семей.
В назначенный день снаряжались повозки, нагруженные самоварами, углем и хлебом и различною провизией, и под предводительством кухарок отправлялись с рассветом дня в монастырь, где выбирали уютное местечко и начинали жарить, варить и вообще заниматься стряпней. Хозяева же этих подвод с провизиею в большинстве случаев отправлялись в монастырь пешком, на тощий желудок, с целью там поднять чудотворную икону «с корня», отслужить молебен и, помолившись богу, уже приступить к трапезе для утоления нужд грешного тела. Благоговейно из верхней церкви Куряжского монастыря все пилигримы несли икону вниз, к источнику, в храм св. Онуфрия. С большим благоговением, умилением и со слезами, молились пришедшие паломники о помиловании их за совершенные ими грехи, «вольные и невольные».
Прекрасное, светлое утро расцветшего дня; воздух, напоенный ароматом цветущих деревьев и злаков; неуловимая гармония звуков от певчих птиц, стрекотня и жужжанье насекомых; наконец, эти храмы с ликами святых, с монашествующею братиею и с стройным хором – все это возвышало молитвенное настроение пришельцев, располагая их в эти минуты к добру и наполняя их души искренним желанием быть лучшими, чем они были до этого часа. Зверь был подавлен и уничтожен, и человек казался достойным любви и доверия. Щедрою рукою в эти минуты клались гривны на тарелочки и в кружки, а у образов иконостаса возжигались толстые свечи…
В последний раз священник вознес молитву к небесам и, обратясь к молящимся, тихим голосом произнес молитву отпущения, благословляя народ крестным знамением. Чинно и благоговейно молящиеся начали расходиться из храма к месту, которое они облюбовали для временного своего привала. На пути их встречала живописная природа, делившая монастырь на две красивых картины: на картину погорья, с источниками ключевой воды и с дубовою рощею, и на картину нагорья, с которого открывался очаровательный вид на луг, обрамляющий реку и усеянный цветущими злаками, и поле, пленяющее глаз золотым морем ржи.
Две или три семьи садились вокруг самовара, и начиналось чаепитие. На первых порах все шло обычным путем и не обещало ничего худого. Зверь еще не вошел в силу, и человек, казалось, еще не переставал царить над всем. Мало-помалу стол начинал заполняться различными закусками, привезенными из города. В это время мужчины начинали вынимать из повозок корзины, в которых были тщательно уложены бутылки с водкою и различными винами. Зверь начинал потягиваться и приподнимать свою голову. Пробочник в качестве мудреца, умевшего открыть смысл всякой тайны, начинал делать свое дело, и человек, всегда жадный к познанию всяких тайн, приступал к черпанию их из привезенных им бутылок. Развязывались языки, веселье и смех начинали отражаться на лицах пилигримов, а тайны, почерпнутые из бутылок, начинали срываться с языков в виде острот и колкостей, посылаемых тут же сидящим сотоварищам. Картина, представлявшая мирно беседовавших друзей, начинала меняться. Зверь входил в свои права, и человек стушевывался на задний план.
На полотне картины появлялись более яркие и сгущенные краски; позы действующих лиц начинали принимать положение то нападающих, то защищающих. Тайны, открытые пробочником, гласили, что Иван Петрович дурно обозвал где-то Петра Ивановича; Анна Федосеевна что-то нехорошее затеяла с Кузьмой Петровичем…
Ссора, точно туча, надвигалась все ближе и ближе. Вокруг еще так недавно весело беседовавших между собою родственников начинал меркнуть свет разума и…вражда, как ливень-дождь с раскатами грома, шумела не умолкая…
Насколько умилительна была группа пилигримов, шедших в монастырь, настолько та же группа людей была несимпатична и мрачна, когда она возвращалась домой. А надвигавшаяся ночь еще более сгущала краски и тем как бы пророчила что-то недоброе…
Она пророчила, и сбывалось ее пророчество.
На половине дороги, между Харьковом и Куряжем, и теперь еще стоит каменное здание, называемое «Залютино». В то время это был кабак, содержимый откупщиком, с продажею дешевой водки. Тут обыкновенно паломники останавливались и, воздавая хвалу Бахусу[48], нередко вступали между собою в бой, оканчивавшийся иногда убийством. Тут же обдирали уснувших в хмелю и оскорбляли женщин, случайно запоздавших на возвратном пути из монастыря.
И все это творилось и совершалось не потому, что совершавшие безобразие были действительно подвержены алкоголизму. Нет. Причины их слабости следует искать в другом месте.
Таковы были летние развлечения для людей, живущих заработком трудового дня. Что касается зимнего времени, то в этот период развлечений было меньше. Чтение вообще, как я уже сказал, преследовалось хозяевами. Но, кроме этой причины, чтение уже и потому не шло в ход, то большинство из обывателей города было неграмотным или умевшим подписывать только свою фамилию, например «Кистинтин Залезнов», что, конечно, нужно было читать – Константин Железнов.
Библиотек для чтения совсем не было. Был один только книжный магазин – Апарина. Помещался он много лет на углу Университетской улицы и Пащенковой горы, в лавках, принадлежавших тогда Сергею Федотьевичу Карпову, а впоследствии Пащенко-Тряпкину.
Но торговля книгами шла тихо, и покупались преимущественно учебники и книги научного содержания. Покупателями книг были преимущественно профессора университета, учителя губернской гимназии, студенты и гимназисты. Затем покупались публикою рассказы Грыцька Основяненка (Квитки), «Энеида» Котляревского, романы: «Иван и Петр Выжигины» Булгарина переводные романы Коцебу, «Лолота и Фанфан»[49], «Векфильдский священник»[50], «Виктор, прекрасное дитя, найденное в лесу». В большом требовании была: «Битва русских с кабардинцами»[51], а затем – сказки и гадальники по Брюсу и по Мартыну Задека.
Что касается тех литературно-музыкальных вечеров, о которых я говорил выше, то они были в семьях профессоров, у педагогов, у крупных чиновников, у помещиков и у богатых купцов. Но все же таких домов, по отношению ко всему населению города было так мало, что такие семьи представляли собой отрадные оазисы среди безмолвной и полной тьмы пустыни.
Для бедного и трудового люда в зимнее время увеселениями были зрелища в роде кулачек.
С особенным интересом, целыми толпами бежал народ, бросая работу, смотреть, как на Конной площади наказывали плетьми преступников.[52] День таких наказаний был днем какого-то празднества, а процедура наказания плетьми заменяла для народа хороший спектакль. Начиная от ворот острога, тихим шагом, на высокой колеснице, в роде эшафота, окрашенной черною краскою и запряженной парою рослых лошадей, сидел привязанным к столбу преступник, на груди которого висела доска с надписью «за убийство». По бокам его сидело по жандарму, с обнаженными саблями. Сзади колесницы тихо следовал взвод конных казаков, а за ними ехали власти и врач. Старики, парни, женщины, девушки, подростки и дети толпою шли за этой процессией и смотрели, как палач, на законном основании, истязал тело преступника.
Изредка театр со своим доступным для бедного люда райком доставлял истинное удовольствие для обывателей податного сословия. Наконец, хождение по вечерам в гости к родным и к кумовьям было в обычае того времени. Но такие невинные хождения по гостям нередко для обывателей были причиной слез и сугубой скорби.
В те годы, с десяти часов вечера, полицейский обход, под предводительством квартального надзирателя, обязан был ходить по улицам города всю ночь до рассвета и забирать в полицейское управление всех, которые попадались пешком в позднее время ночи «в нетрезвом виде».
Но, вероятно, вследствие ночной тьмы в большинстве случаев, трезвые мужчины, женщины, девушки и даже дети брались под арест и сажались при полиции в арестантскую. Утром, когда город весь просыпался, арестантов выгоняли группами и заставляли их мести и чистить улицы в наказание за позднее блуждание по городу.
Весьма понятно, что для многих обывателей такая мера была более чем страшна, потому что повергала всю семью в уныние и скорбь от перенесенного позора. Благо было той семье, которая, возвращаясь из гостей, могла одарить квартального деньгами. Но если семья гостила на противоположной от своего жилья стороне города, то ей приходилось отплатить две таких подвижных таможни, чтобы иметь удовольствие ночевать дома, а не в арестантской.
Те из обывателей, которым нечем было откупиться от ареста, на утро другого дня представляли собою живую картину самого комического содержания, так как большинство арестованных возвращались из гостей одетыми в лучшие костюмы: женщины – чепцах, девушки – в намистах, с дукатами на шее в цветах на голове; попадались мужчины даже в цилиндрах и в лакированных сапогах. И вот эта нарядная публика и мешалась с оборванцами, бездомными и завзятыми пьяницами, женщинами сомнительного поведения и старухами, потерявшими всякое благообразие вследствие распущенности нрава. Вся эта группа пестрого маскарада, с метлами, с лопатами и с тачками в руках, под надзором полицейских солдат мела и очищала улицы. Рассвет дня неожиданно открывал эту картину для проходящих, которые встречали знакомых им лиц: сына с отцом или с матерью, племянника с теткою, бабушку с внуком. Девушки-дочери, тоже зауряд с матерями, в праздничном наряде, мели улицы и скоромадили[53] деревянные тротуары. Была ли это насмешка над бедным и бесправным человечеством, или действительно порядок, – я не берусь решать. Но, во всяком случае, нельзя не сказать, что личность человека и его самолюбие были подавлены этою мерою до крайних границ… Злые языки (а таких и в те годы было не мало) дежурство по ночному обходу называли «походом полицейских аргонавтов за золотым руном», но такие обходы не облегчали участи невинно арестованных.
Был квартальный Дудышкин, лет пятидесяти, вдовец, имевший троих детей. Наскучило ему жить в одиночестве, и он задумал в другой раз жениться.[54]
Под Холодной горой, вблизи Карповского сада, в собственном домике в три окошечка, жила семья Осмяткиных, состоявшая из матери, мещанки по происхождению, и двух взрослых дочерей. Семья занималась шитьем белья и на заработанные деньги жила безбедно, имея еще и двух швей по найму.
Полюбилась Дудышкину старшая дочь Осмяткиной, Марфа Антиповна, лет восемнадцати, голубоглазая блондинка, среднего роста, с весьма грациозною походкою и с манерами, напоминавшими барышню из богатой семьи. Затеял Дудышкин ходить к Осмяткиным в гости и просиживает целые вечера. Иногда приходил он выпивши, но всегда с особенною любезностью относился к Марфе Антиповне, угощая ее то сладкими рожками, то фигурками из леденца фабрики Павлова, то девичьей кожей из аптеки Сартиссона. Наконец, однажды он принес им фунтов десять осетрины и начал рассказывать, какая хорошая солянка выходит из этой рыбы, если ее так и этак приготовить.
Дарья Ильинишна Осмяткина долго смотрела с удивлением на посещения, а еще более на сладостные приношения полицейского джентльмена и наконец решилась спросить у него, чему они все обязаны, что он так благоволит к ним.
Дудышкин ответил, что ему уж невмоготу больше крепиться и сдерживать свои чувства, что трепещет его сердце и горит его душа, как соломой крытая крыша в страшную ночь пожара. При одном взгляде на Марфу Антиповну он из квартального делается овцой неутешною и не узнает себя. Пощадите влюбленного человека и не дайте моим детям остаться сиротами – закончил объяснение Дудышкин и не медля ни минуты, стал на колени перед Марфой Антиповной.
Как сидела Марфуша за шитьем белья, так и осталась неподвижно, точно bella statua[55]. Работа ее выпала из рук, веки быстро замигали, и голубые ее глаза подернулись от нахлынувших слез туманом. Предложение Дудышкина одновременно и поразило ее неожиданностью, и обидело ее. Влюбленный квартальный по летам ей в отцы годился и при этом она уже имела жениха – молодого переплетчика, старшего мастера известного в то время картонажного заведения Агац. Она любила Гаврила Ивановича Сапунова и дала ему слово, о ем знали все, знал и Дудышкин. Сапунов был крепостным человеком Афонова, имевшего около десяти человек без земли. Все эти крестьяне были в различных местах в услужении и платили ему оброк. Гаврил Сапунов, задумав жениться на Марфуше, решил откупиться на волю и сговорился со своим барином, согласившись уплатить ему пятьсот рублей. Но собрать эти деньги было трудно в один год, и это откладывало их свадьбу до лучшего времени. И вот неожиданно Марфуше делают предложение. Она растерялась.
- Господин квартальный, – наконец, с робостью подавленного человека, сказала она. – Я засватана…
- Знаю, знаю я, – поспешно ответил Дудышкин. Это за Гаврюшу Сапунова? За этого простого переплетчика? Знаю. Да разве же он может сравниться со мною? Я – дворянин, а он – тьфу, и больше ничего! Да разве он может так вас любить, как я вас буду любить? Я вас каждый день буду кормить и осетриной, и икрой, и рожочками, и пряничками. Вы знаете – мне только нужно прийти в лавку или магазин и сказать: отрежь мне этого, насыпь вон того, заверни то-то. И все, по щучьему велению, тотчас будет исполнено. А Гаврюша что?. Тьфу, и больше ничего. Гаврюшку я вот от вас тотчас пойду и возьму в полицию и высеку как моей душе будет угодно. И никто в этом мне не запрет. А ну-ка, попробуй кто тронуть дворянина или его жену. Вы, конечно, девочка, еще этого не понимаете…
- Ваше благородие, господин квартальный, – робко и жалобным голосом возразила Марфа Антиповна, – простите нас. Мы любим друг друга…
И Марфа заплакала перед влюбленным начальником.
- Ну, ну будет. Вы подумайте, а я зайду, зайду к вам за ответом.
Дудышкин попрощался с Осмяткиным и поспешно ушел из их дома.
Влюбленный гость-начальник как громом поразил всю семью своими излияниями чувств пылкой любви. Но по всестороннем обсуждении всего происшедшего все решили категорически отвергнуть предложение Дудышкина. Что же касается Марфы Антиповны, то она, не задумываясь сказала матери, что лучше она утопится в реке, чем выйдет замуж за Дудышкина. Шли дни за днями, и восход солнца зимнего, морозного утра уже не раз сменялся закатом его, обливая ярко багровыми лучами землю, убеленную глубоким снегом. Между тем, хотя Осмяткины и порешили бесповоротно отказать Дудышкину, но все же на душе Дарьи Ильинишны что-то не улеглось, и только Марфуша вновь была весела и, работая иглой, пела свою любимую песенку:
Вейтесь, кудри мои, заплетайтеся,
В жемчуг, в золото убирайтеся.
Пусть мой суженый полюбуется,
На вас глядючи, затоскуется,
Что день свадебный не пришел еще
Так счастливая молодость всегда относится к невзгодам жизни. Прошла, прогремела тучка непогоды; очистился и зарделся радостным светом горизонт неба… И дуется молодой душе, что уже нет ничего страшного впереди, что все полно добра и мира…
А Дарья Ильинишна, оснащенная опытом жизни и знавшая по своим подругам многое, что лежало а изнанке жизни, тревожно проводила ночи, ожидая со дня на день чего-то недоброго…
Между тем Дудышкин, получивши от Марьфиньки отказ и увидавши, что сама Осмяткина была не на его стороне и пренебрегала его дворянством и высокою частью, какою он подарил ее, мещанку податного сословия, делая ее дочери предложение, не на шутку рассердился и задумал отомстить всей семье за понесенное фиаско.
- Ну, подожди же ты, старая, – повторял он не раз в приливе злобы, вспоминая об отказе – да и ты, швея, с льняными волосами! Я вам покажу, как пренебрегать благородным чувством образованного человека.
На масляной был день именин крестного отца Марфуши, который жил на Кузнечной улице где была его мастерская повозок и простых саней – розвальней.
В те годы весьма строго следили за соблюдением выражений чувств уважения, любви и почтения не только к родителям, но даже и к дальним родственникам. Забыть поздравить с именинами крестную мать или крестного отца, не прийти во время отъезда кого-либо из них проводить их с пожеланием благополучного пути, в воскресенье перед началом великого поста не прийти к крестным отцу и матери «проститься» на великий пост, обменявшись хлебом-солью, – считалось верхом невежества.
Вследствие такого обычая утром шли поздравлять крестных отца мать с днем ангела, а вечером не прийти по приглашению на пирушку крестной дочери к крестному отцу было невозможно.
Для людей, живших дневным трудом, исполнение таких обычаев давалось не легко уже потому, что день именин тетки, дяди, или крестного отца пропадали даром.
Неохотно и лениво собирались Осмяткины на вечер к имениннику. Особенно Дарья Ильинишна была под давлением какого-то тяжелого предчувствия. Вечер, однако, прошел весело и благополучно.
Был уже час ночи, а об ужине и не думали радушные хозяева. Осмяткина поднялась идти домой и ушла со своими двумя дочерьми.
Дудышкин давно уже следил за ходом вечеринки и, узнавши, что Осмяткины уже ушли, поспешил за ними. Настигнув их у Лопанского моста, он, без дальних слов и объяснений, приказал всех их, троих, арестовать, поручивши двум солдатам отвести в участок и посадить в общую арестантскую до утра.
Никакие мольбы, никакие просьбы и уверения не склонили оскорбленного блюстителя порядка переложить свой гнев на милость и отпустить с миом семью Осмяткиных.
Говорить ли о том, какое удручающее состояние духа овладело несчастными арестованными в тесной, холодной, грязной и сырой арестантской комнате?
Когда их привели, было всего три человека, которые спали крепким сном. Но с течением ночи арестованных прибавлялось все больше и больше, и к утру в комнате так было душно, тесно и грязно от таявшего на обуви снега, что было трудно дышать, и не было места, где бы можно было преклонить свою голову. Не мало прибыло в арестантскую пьяных и оборванных бездомников, для которых арестантская была не новинкой и потому вызывала в них веселое настроение духа. Начались остроты по адресу Осмяткиных, которые в своих праздничных нарядах выделялись из среды всех арестованных, а своею необщительностью вызывали со стороны многих насмешки и колкости, пересыпаемые нецензурными словами. Но более других назойливо приставали к Осмяткиным полупьяный оборвыш, с одною ясною пуговицей на поношенном вицмундире, и какая-то женщина средних лет. Они не давали покоя бедной семье.
- Ну, что за генеральши попались между нас, – с неудовольствием говорил оборвыш, такой же как и он, женщине. – Тоже еще и нос кверху держат, точно что-нибудь и путное.
- Послушай, красотка, – говорила женщина Марфуше, указывая на оборвыша с ясной пуговицей – давай я тебя сосватаю за этого красавца.
И таким приставаниям не было конца.
На рассвете всех выгнали с метлами и лопатами на улицу и заставили мести и убирать сор.
Скорбь от стыда и унижения у Осмяткиных дошла до крайних пределов, и трудно отгадать, чем бы окончилось это нравственное истязание, если бы случайно не вышел к ним частный пристав их участка Поливанов, который знал Осмяткиных, и отпустил их домой без пререканий.
Измученные, усталые, обруганные и униженные, оставили Осмяткины метлы и лопаты и пошли домой, едва передвигая ноги и плохо видя глазами, воспаленными от горячих слез и от резкого ветра при сильном морозе.
Несмотря на то, что Осмяткины возвратились домой в восемь часов утра, но к обеду этого же дня по всем окраинам города уже говорили на разные лады о том, что Осмяткины ночевали в арестантской при полиции, а утром мели улицы. Конечно, говорилось это на разные варианты. Говорили даже, что всему причиною Дарья Ильинишна, которая была нетрезва и вошла в пререкания с квартальным надзирателем. А некоторые шли еще дальше и утверждала, что Марфа Осмяткина шла по улице с цветами на голове и приплясывала, а какой-то приказчик, из провожавших ее, играл на гармонии.
Арест, сидение целую ночь в арестантской под грубым надзором солдат из пожарной команды; пребывание на улице совместно с пьяницами и бродягами, морозное утро с сильным, режущим ветром и, наконец, сплетни, ходившие о всем происшедшим по городу, не могли не повлиять на здоровье Осмяткиных. Все они переболели и заплатили тяжелую дань здоровьем стрясшейся над ними беде. Тяжелей всех отразилась эта беда на здоровье Марфуши – натуры слабой и одинаково восприимчивой как к радости, так и к горю. Она заболела и слегла в постель. Более двух месяцев проболела Марфуша и только к лету могла встать с постели. Но хрупкая ее натура сильно подалась от такой неожиданной и большой для ее души встряски. Не успела еще окрепнуть Марфуша от перенесенной болезни, как новая грозовая туча заволокла собою светлый горизонт ее неба.
Дудышкин не унывал, а шел дальше, утоляя свое уязвленное самолюбие вновь придуманными им кознями.
Дворянин Афонов, которому принадлежал Гаврюша Сапунов, часто нуждался в деньгах и прибегал к займу у разных лиц. Такая частая нужда в деньгах повела к тому, что он однажды у буфета гостиницы купца Шерыкина разговорился с Дудышкиным и при этом, как всегда бывает пожаловался ему, что крепостной человек, переплетчик Гаврил Сапунов, давно уже заключил с ним словесный договор о выкупе себя на волю за пятьсот рублей, но вот скоро год, как не вносит ему этой суммы, почему приостанавливает совершение своей отпускной, а его заставляет нуждаться в деньгах. Обрадованный тем, что нашлось тема для дальнейшего разговора и влияние на помещика Афонова, Дудышкин поспешил угостить его закуской и выпивкой и разговорился с ним более подробно на предложенную им тему.
- Да скажите, что вам за интерес томиться безденежьем, дожидаясь пока вам Гаврюша соберет пятьсот рублей, тогда как вы сейчас можете получить за него даже большую сумму? – возразил Дудышкин.
- Как же это так? – с удивлением спросил помещик.
- Да вы знаете, зачем хочет откупиться на волю ваш Гаврюша.
- А зачем?
- Ха, ха, ха!.. Ведь это смех – и больше ничего. Он влюблен и хочет жениться.
- Ха, ха, ха! Гаврюша влюблен? Ха, ха, ха! Гаврюша влюб… ха, ха, ха! Нет, пощади, я лопну от смех. Гаврюша, крепостной человек, этот хам влюблен? Как вам это понравится? И у него, как у нас с вами, нашлось это благородное чувство? Нет, я этого не допущу… Мне только бы найти…
- Да что там найти? Хотите получить за него деньги, которые вы от него напрасно ожидаете уже год?
- Сделайте милость. За это будет хороший подарок от меня.
- Вот что я вам скажу. Вы знаете, здесь есть резник – скотобой Завзятый. Его сыну нужно идти в солдаты, а записаться в гильдию на этот случай он опоздал. Вот он и ищет, кого бы найти, чтобы поставить за себя. Вы продайте ему в наемщики Гаврюшу и просите с него тысячу рублей и половину денег вперед. Ну, а затем поторгуйтесь и дадите ему уступочку, чтобы не упустить покупателя. Случай редкий и выгодный.
- Друг мой, благодетель! – в восторге крикнул Афонов и обнял квартального надзирателя. – Но только вот задача, – как это сделать? Это, ведь, тонкое дело…
- Да это мы уладим. Говорят, на всякую болезнь своя микстура есть. А на это дело у нас есть секретарь по рекрутской повинности…Только, конечно, сотенную надо дать секретарю…
- Ладно, Согласен… Так завтра я жду вам с мясником.
- Да уж приду и приведу. А может вам деньжонки нужны, так возьмите, вот, пятишницу. Дал бы больше, да у квартального какие деньги? Говорят – он взятками живет. Эх, языки суконные! Посадил бы их на наше место.
- Вот, друг, вот душа человек. Сейчас видно, что человек благородный.
Заправивши дело сдачи в рекруты Гаврюшу Сапунова, Дудышкин простился с помещиком, который на пять рублей отпраздновал удачно начатое дело лег спать, с нетерпением ожидая следующего дня, обещавшего ему, по милости квартального Дудышкина, хороший куш денег…
Сдача в солдаты Гаврила Сапунова в принципе была решена, и секретарь дал слово, что он все устроит и уладит как должно быть по закону, и никто иголочкой не подденет: так чисто будет обделано дело. Мясник с Афоновым и секретарь обменялись задатками, как люди благородного слова и чести. Гаврил Сапунов несколько раз был у своего барина и слезно просил не губить его, не отдавать в солдаты. Но Афонов и слышать не хотел. Благородный и добрый Агац просил за него и, наконец, Марфа Осмяткина на коленях со своей матерью просили барина не разрушать их брак, не отдавать Гаврюшу в солдаты.
Но ничто не смогло склонить барина к отмене его решения.
- Вот что я вам скажу раз навсегда, – наконец ответил Афонов Осмяткиным: – внесите мне полторы тысячи рублей, и я вам отдам Гаврюшу навсегда.
Марфуша не перенесла такого жестокого удара и, не окрепши от недавно перенесенной болезни, вновь заболела и первые дни расцветшей весны встретила в постели. Открылось кровотечение горлом, она худела очень быстро, проводила бессонные ночи и страдала от сильных болей в груди. Еще так недавно веселая, жизнерадостная, Марфуша таяла с каждым днем и даже для близких родных делалась неузнаваемой. Она и встречала и провожала день, справляясь о Гаврюше. Ее утешали как могли, уверяя, что он не будет годен в солдаты и придет к ней с забритым затылком[56].
С непреодолимым стремление жить, она с полным доверием относилась к таким уверениям и спешила делать распоряжение о венчальных цветах и о платье, радостно уверяя и себя и других, что как только Гаврюша освободится от рекрутской повинности, так они немедленно от рекрутской повинности, так они немедленно обвенчаются. Но для Дарья Ильинишны представлялась плачевная картина, которую подготовляла им жизнь. Не было надежды, чтобы эти два любящие сердца получили право на счастье. Казалось, один из них был намечен смертью, как финальный монолог разыгравшейся семейной драмы.
Проходили дни, и тяжелые дни ожидания для Марфуши. Наконец наступил месяц, в который Гаврюша должен был стать под рекрутский станок, для определения узаконенной меры человека, годного быть солдатом. Ночь на этот день Марфуша провела очень тревожно, и усилившиеся боли в груди заставляли больную переносить большие страдания. К утру ей будто бы тало легче: она покойно и с веселою улыбкой встретилась с родными. Боли в груди оставили ее. Но все же она была слаба, часто впадала в забытье и вновь открывала глаза, звала к себе мать и просила ее, чтобы она не пускала к ней Дудышкина.
Были минуты, когда она приподнималась с подушки; быстрым и острым взглядом смотрела куда-то вдаль, и радостная улыбка играла на ее устах.
- Скажи мне, мама, скоро будет два часа? – уже не в первый раз спрашивала Марфуша Дарью Ильинишну.
- Да я уже тебе много раз говорила, голубка моя, – со скорбью в душе отвечала мать. – А для чего тебе нужен этот час?
- Сегодня, в два часа, я перевенчаюсь с Гаврюшей, – радостно улыбаясь ответила Марфуша.
Бедная мать не могла не принять ее слов болезненный бред и только глубоко вздохнула, но ничего ей не возражала.
В два часа с минутами неожиданно не вошел, а вбежал Гаврюша в комнатку к Марфуше и сел на краю ее кровати. У него затылок был выбрит.
- Гаврюша! Крикнула Марфинька и, поднявшись энергично с постели, обняла его обеими руками.
Но спустя минуту она как-то странно опустила свою голову на его грудь и глубоко вздохнула. Голова ее, точно отсеченная мечом, свалилась и повисла на груди бедного Гаврюши.
- Марфуша! Что с тобой? Меня не выбрали Марфуша.
Но Марфуши уже не было. Она умерла на его груди…
Я упомянул, что изредка обывателя города посещали театр.
Без преувеличения скажу, что театр был всегда у харьковцев излюбленным препровождением времени. Если для многих из небогатых обывателей города это удовольствие редко выпадало на долю, но только потому, что их средства не позволяли часто пользоваться им.
Но о театре я буду говорить более подробно в недалеком будущем.
В настоящее время нахожу необходимым сказать, что частому посещению театра небогатым обывателям города нередко мешала невылазная грязь, царившая в то время в Харькове и охраняемая городским управлением с особенною настойчивостью.
Грязь в Харькове была не только глубокая и продолжительная, но даже опасная для жизни. Было бы непростительно не остановиться над этой грязью, которая нисколько не уступала по своим высоким качествам той грязи города Тамбова, в которой недавно утонула лошадь, стоившая шестьсот рублей. В учебных заведениях города во время гряди устанавливались ежегодно так называемые «грязные каникулы». Были улицы, по которым невозможно было добраться до своего жилья ни пешком, ни в экипаже; и только верхом, плывя чуть не по брюху лошади в грязи можно было доехать до жилья. Экипажи ломались в такую грязь как соломинки; лошади грузли настолько, что нужно было вытаскивать их посредством волов. При погребении усопших были случаи, что несшие покойника на нарах вязли в грязи, спотыкались и опрокидывали гроб с покойником в грязь посредине улицы. Почва, состоявшая преимущественно из чернозема и суглинка, во время распутицы делалась на улицах настолько вязкой, что из сапога с высокими голенищами вынималась нога, а сапог оставался в грязи.
Более всего замечательны по невылазной грязи были площади, которых в то время было больше, чем теперь, и занимали они значительно большие пространства, чем занимают площади настоящего времени. Площади – Мироносицкая, Конная и Базарная – с азартом оспаривали друг друга пальму первенства за невылазную грязь. Но Мироносицкая площадь одержала победу над другими площадями уже потому, что кроме грязи она была долгое время богата разрытыми могилами и ямами от погребальных склепов, так как представляла собою упраздненное городское кладбище. Какою-то ловушкой, какую строят для ловли медведей, была эта площадь.
По левой стороне Сумской улицы дом, бывший Сливицкого (ныне Шатровой), был последний частный дом. Затем следовал институт благородных девиц, университетский сад и Ветеринарная улица.
На Мироносицкой площади, после продолжительного забора от угла улицы, был домик в три окошечка, принадлежавший Сливицкому (ныне Рудневой) и смотревший на широкую площадь, заставленную густо памятниками, оградками, капличками, плитами надгробными, простыми могильными холмами с крестами у изголовья. Не мало было чугунных, каменных и мраморных плит с зияющими норами, точно ранами, от провалившейся в склеп земли.
Вся эта картина полного разрушения и пренебрежения к месту упокоения когда-то усопших людей и даже к порядку и благообразию стояла много и много лет, наводя и страх и ужас на обывателя патриархальной старины в ночное время и днем.
Эта площадь, представлявшая собою картину безобразия и разрушения, была не безопасна для прохожего как во время грязи, так и в сухую погоду.
В брошенных на произвол всеразрушающего времени часовнях, капличках и разных склепах с начала дней весны поселялись люди злой воли и распущенного нрава и жили там как в своем углу. Временами, по ночам, для того, чтобы не так открыто держать свой приют на виду у всех, эти люди гнездились в подземных склепах, построенных из кирпича со взводами в виде небольших погребов. Там, сидя на гробах усопших, они при свете сальной свечи или ночника (каганца) играли в три лита. В темные ночи из этих усыпальниц виднелся красноватый огонек и шел дым, застилавший собой соседние склепы и могилы. Это в склепах готовился ужин; мраморная надгробная плита изображала собою кухонный стол, и тут, над гробами мертвых, шла стряпня для предстоящего табль-д’ота проголодавшихся жильцов гробниц.
Иногда эта непритязательная и веселая компания в этих усыпальницах совершала вакханалии совместно с прекрасным полом, и тогда кроме света, слышались еще звуки бандуры нищего слепца, нанятого играть для такого пышного бала.
Грустно останавливать внимание на темных сторонах родного города. А еще более грустно эти темные стороны социального строя жизни родного города предавать гласности. Но во имя блага трудящих поколений я не могу умолчать о том, что русский человек вообще к своей родной старине, а также и к месту вечного упокоения в особенности, относится если не с холодным равнодушием, то как-то индифферентно, невнимательно. Кому известен маленький городок в Пруссии – Шетин? После Зюдне-Мюнде – это было первое место, в котором я остановился на сутки, чтобы осмотреть вблизи все то, что я наблюдал с палубы парохода, плывя по Ордеру и поражаясь тем благоустройством, какого я не встречал на своей родине. Осмотревши окрестности, мне пришлось остановится у упраздненного кладбища, на поле которого шла оживленная работа. На мой вопрос, что делают рабочие и для чего они выкапывают кресты, принимают бережно монументы и заравнивают землю, мне объяснили, что это кладбище, как уже вошедшее в черту города, упразднено, почему все гробы с останками усопших бережно вынимаются из земли, снимаются монументы, ограды, кресты и металлические решетки; уничтожаются каменные склепы и тщательно заравнивается вся местность, делась годною для постройки домов и для проведения как водопроводов, так и улиц. На вновь отведенном месте для кладбища, вблизи храма, вырывается большая общая могила, у изголовья которой становится один из крестов и обносится металлической решеткой. Надпись гласит: «Общая могила останков усопших с такого-то по такой-то год». Что касается крестов, монументов и решеток, то весь этот материал превращается в деньги, на проценты с которых ежегодно на общей могиле совершается поминовение и ремонтируется могила.
Не знаю, можно ли не отнестись благоговейно к такому уважению к останкам когда-то живших и усопших людей? Между тем, у нас ничего нет подобного. Говорить ли о том, что кладбища наши, даже не упраздненные (как, например, Холодногорское), содержатся нерадиво. Что же касается упраздненных кладбищ, то о таковых едва решается говорить. Я описал картину, какую долгое время представляло собою кладбище Мироносицкое. Кладбище Каплуновской церкви, в свою очередь, долгое время служило местом хищения плит, решеток и крестов людьми низкого уровня нравственности. Кому не памятно изобилие костей и гробов, которые были выравниваемы при укладке костей и гробов, которые были выравниваемы при укладке водопроводных труб сзади Николаевской церкви? В то время, когда строились дома Ковалева, Медведева (ныне Укше), Карпова (ныне Питры), Мишукова (ныне Гладкова), Мухина (ныне дом городской думы), гробы и кости усопших ставили в тупик строителей, не знавших, что с ними делать. И мне невольно приходит на память могила m-me Staël[57] в роще белых акаций. Могила на далеком расстоянии от ее креста обнесена оградой, на углах которой следующая знаменательная надпись:
C’est mon repos eternel; mon ame vous prie: ne le derangez pas! Staël[58].
В настоящие дни в таком же невнимании находится упраздненное кладбище на Конной площади.
Говорят: «примеры заразительны». Было бы желательно, чтобы пример Запада, совместно с могилою Сталь, заразили и нас сердечным отношением к нашим усопшим отцам и дедам.
Мироносицкая площадь в те дни служила рассадником суеверий и различных легенд, ходивших по городу о том, что мертвые вылазят из своих гробов и гоняются за прохожими, требуя от них иные молитв, другие – ограждения их места упокоения от мирской грязи и суеты…
Но как бы то ни было, а через эту площадь для многих лежал путь к концу Немецкой улицы и к улицам, примыкавшим к ней.
Если город освещался посредством конопляного масла, которое давало более чем жалкий свет, то такие громадные площади совсем не освещались и потому в безлунную ночь представляли собой тьму кромешную. А во время распутицы они представляли собою тундру в малом виде. И были случаи, что прохожий попадал на могилу, доски которой погнили, и проваливался в нее всею тяжестью тела, ломая себе руки и ноги. На крики его, обыкновенно, сходились живые жильцы склепов и охотно вытаскивали упавшего из медвежьей ловушки, довольствуясь самой ничтожной благодарностью. О грабежах не часто было слышно. Грабежами и даже убийствами отличались пригородные кабаки, в которых продавалась дешевая водка.
Я сказал выше, что суеверия в Харькове были явлением, чрезвычайно распространенным. Достаточно иногда было человеку выделиться из среды других своим состоянием или особенно счастливою торговлею, и легенда уже складывалась среди обывателей города как о человеке не таком, как все люди. О нем говорили, что он свою душу продал чорту, и потому его торговля идет так широко и удачно. А если такой человек умирал, то он непременно до сорока дней должен был ходить по городу и непременно в белом саване, хотя бы всем было то ведомо, что его похоронили в черной сюртучной паре. Такая легенда ходила долгое время о купце Павлове, которого торговля колониальными товарами, оптом и в розницу, была так велика и прибыльна, что составляла предмет зависти для большинства торговцев. Но о купце Павлове я буду говорить в свое время, а теперь, возвращаясь к Мироносицкой площади, я спешу сказать, что вера в возможность посещения живых умершими иногда приводила к трагической развязке. Эти суеверия создавались теми, кому чуть не ежедневно приходилось переходить кладбища, выигрывая и расстояние пути и время. Нет сомнения, не раз и не одному из прохожих приходилось видеть, как вдалеке от него вдруг выходил из земли человек и шел куда-то в пространство. Говорить ли, что вышедший из земли человек был не кто иной, как живой жилец склепа или усыпальницы; но прохожий в ночное время принимал его за мертвеца. А если выходила из склепа женщина в белой рубахе, то иллюзия у труса дополняла веру в то, что он видел не живого человека, а мертвеца. Да и кому было бы заняться разубеждением там, где рассказчик и его слушатели были склонны верить всякой небылице, лишь бы эта небылица была мистического содержания.
Однажды, молодая девушка, лет двадцати, Матрена Безрукова, совместно со своею матерью, Ириной Федосеевной, возвращалась поздно домой, неся в корзине белье, взятое ею в пансионе Сливицкого, который помещался в собственном доме, ныне принадлежащем г-же Шатовой.
Ирина Федосеевна была прачка.
Настала осенняя пора. Грязь была еще небольшая. Нога не взяла в ней, но скользила, нарушая часто равновесия тела пешехода и тем самым затрудняла его ход. Ирина Федосеевна с дочерью своей Матрусей поспешно шла, чтобы до полуночи прийти домой, так как в полуночную пору чаще всего вылезали из склепов и могил мертвые, гоняясь за людьми, и хотя никогда не обижали их, но нередко обращались к ним с просьбой или молиться за них, или исправить из могилу, грозы в противном случае мстить им всю жизнь. Желая сократить путь, они шли по диагонали площади, пересекая места, на которых в настоящее время расположены дома Ново-Чернышевской улицы и параллельно ей Мироносицкой.
Ночь была темная. Частью скользкая грязь, частью тяжело нагруженная бельем корзина шатали их стороны в сторону и сбивали с протоптанной пешеходами тропы. Как мать, так и дочь были робкие люди. Легенды, ходившие по городу о мертвецах, были им хорошо известны. Все это еще более делало их шаги неверными, сбивало их с пути и заставляло через силу торопиться.
От могилки какого-то усопшего остался неправильный и весьма низкий холмик, на который несчастная девочка Матруся ступила грузно обеими ногами. Но едва она сделала один-два шага, как доски, которыми нередко закладывают могилы, насыпая могильный холм, от большой ветхости сгнившие, не выдержали тяжести тела девочки и провалились в могилу, увлекши за собой девочку. Мать начала взывать о помощи, Матреша начала выбираться из могилы, но все было напрасно. Борты могилы обрушивались, она неоднократно вновь погружалась в нее и, обессилевши от борьбы и страха, заявила своей матери, что мертвец держит ее за ноги. Услышавши это, мать оставила дочь и белье и бросилась бежать, вопя о помощи.
Но раньше рассвета дня ей не пришлось прийти с людьми на помощь к своей дочери, которую застали в могиле в иступленном состоянии от страха. Причиною такого опоздания матери с помощью были все же поверья, вследствие которых никто не желал идти раньше рассвета дня, боясь, чтобы за спасенную от гибели девочку самому не попасть в костлявые объятия приятеля с того света.
Матруся перенесла сильную горячку, хотя молодой организм ее не дался в руки смерти. Она выздоровела, но, увы, потеряла рассудок…
На первых порах мать поместила ее в отделение умалишенных в богоугодное заведение Сабуровой дачи. Но по истечении полугода она ее взяла, частью потому, что врачи признали ее уже выздоровевшею, а частью потому, что Матруся не раз жаловалась матери, что ее прислуга бьет и морит голодом.
Жила Матруся у матери, но при плохом надзоре, так как постоянное мытье и уборка белья поглощали все время матери, отнимая даже часы ночи. Матруся стала уходить из дома и блуждать по окраинам города. Она любила открытое и широкое поле, засеянное хлебами или убранное ковром цветущих злаков. Нередко ночью в одной рубахе, несмотря на зимнее время, ее ловили за городом и приводили домой прозябшею до костей. Летом она почти не жила жома и, блуждая по полям, нередко встречала там утреннюю зарю и сама приходила домой веселою и жизнерадостною. К этому времени ее родные привыкли и, занятые тяжелым трудом, предоставляли ей полную свободу, зная достоверно, что она никогда никого не трогала.
Среди обывателей города, а особенно окраин его, сложилась легенда, будто бы какая-то девушка каждую ночь встает из гробы на Мироносицком кладбище и ходит по городу – ищет того, кто унес крест с ее могилы и разорил место ее упокоения. И когда она найдет виновника такого преступления, то она задушит его костлявыми руками так, как чуть-чуть не задушила она дочку прачки, Матрусю. Легенда эта наводила ужас даже на людей из богатого круга. Многие из ремесленников ночью не иначе ходили по городу, как вооруженные колом или каким-либо иным орудием, боясь возможности встречи с мертвецом, жаждущим мести за свой утраченный покой. Более всех боялись этого мертвеца женщины и положительно отказывались куда бы то ни было идти ночью. Причиною такой боязни было и то поверье, что женщины-мертвецы более любят нападать на женщин, чем на мужчин…
Бедная Матруся, как я уже сказал выше, от сильного испуга потеряла рассудок. Но ее умопомешательство из обостренного и беспокойного перешло в тихое, меланхолическое. Она ни с кем не вступала в разговоре, сторонилась людей, искала уединения, вела беседу шепотом сама с собой и, дождавшись лета, все чаще и чаще уходила из дома в поле, к берегам рек, на лоно природы, где проводила время, безмолвно любуясь всем, что окружало ее в те часы дня или ночи. Широта и простор поля нередко приводили ее в такой экстаз восторга, что она начинала бегать по полю, петь, плясать и издавать звуки радости.
Нередко она исчезала из дома на двое суток, ночь проводила под открытым небом и ничего не ела. Если ее дома запирали и лишали возможности уйти, она забивалась в какой-либо узкий и темный уголок и там по целым дням тихо плакала и что-то шепотом говорила сама с собой. Но едва надзор за нею ослабевал, как она вновь уходила в свое любимое поле, где она пела какие-то песни или восторженно смеялась, следя пристально за движением облаков или смотря на мерцание звезд украинской ночи. Часто видели ее в одной рубахе, босою, с распущенными по плечам волосами и с блуждающими глазами. Видавшие ее в таком наряде спешили уйти от нее и начинали сомневаться в том, что они видели Матрусю, а не кого-либо другого. Не мало было и таких, которые принимали ее за легендарную девушку-мертвеца, ищущую того, кто разорил ее могилу.
Из числа таких пугливых и расположенных легко верить всяким предрассудкам был Трофим Кочанов, парень лет восемнадцати, живший мастером у подрядчика кровельных дел Сухотина. Худой, чахлый от постоянной возни с вареным маслом, страдающий астмой, малодушный, Трофим нередко, по распоряжению своего хозяина, работал за городом и возвращался поздно ночью домой.
Однажды, при слабом свете луны Трофим возвращался с одного из хуторов, расположенных по берегу реки Немышли. Ночь была теплая. Переваливаясь с ноги на ногу и мурлыча себе под нос какую-то нескончаемую песню, Трофим, казалось, был в веселом настроении духа и поглядывал на безбрежные поля, расстилавшиеся перед ним по правому берегу реки Немышли. Уже он приближался к городу, и столбовая дорога, ведущая в г. Чугуев и усаженная развесистыми вербами, уже была близка у его пути. Вдруг, неожиданно, в глубоком теневом пятне, образовавшемся вокруг развесистой вербы, мелькнула какая-то белая фигура, которая сразу выросла, сделалась высокою и зашаталась из стороны в сторону, точно ветвь, колеблемая ветром.
Трофим остановился и начал пристально присматриваться своими подслеповатыми глазами, проверяя, уж не обманывает ли его зрение, что ему чудится что-то похожее на быль.
Но фигура выпрямилась, вышла из теневого круга и, оставив в стороне от себя вербу, под тенью которой она скрывалась, вышла на открытое место и, поднявши руки к небу, еще полному блещущих звезд, что-то громко запела. Серебристым звуком разлился ее голос в ночной тиши и там, где-то далеко, далеко замер в воздухе.
Трофиму вспомнилось о девушке, которая по ночам встает из своей разрушенной могилы и ходит по полям, желая найти того, кто нарушил ее вечный покой. Он присел, пригнулся к земле, укрываясь за небольшим пнем полуразбитой вербы, и начал следить за ее движениями, боясь быть ею замеченным.
Рассмотревши, насколько мог, что фигура, певшая песни, была женщина, он еще более уверился в том, что это была именно та девушка, которая встает из своей могилы и по ночам бродит по земле.
Наполовину он был прав.
Это была несчастная Матруся, которая, по обыкновению, блуждала по полям и, отдаваясь вся созерцанию природы, легко приходила в экстаз, как человек чуткий к возвышенной красоте и при этом больной нервами.
Пропевши какую-то короткую песнь, обращая взоры свои к небу. Матруся звонким хохотом нарушила покой ночи и побежала по направлению к межевому столбу, стоявшему вблизи ее. У столба она остановилась и, упавши на колени, залилась горючими слезами, поникнув головой к земле.
В эти минуты, казалось, она была в полном сознании и, созерцая величие природы, впала в молитвенное настроение своею чистою и еще не тронутою тлением греха детскою душою. Да нельзя было не проникнуться благоговением к этой чудной и величественной картине природы.
То там, то здесь, как море, колыхались поспевавшие пшеница и рожь. Время было далеко за полночь, и к восходу лучезарного солнца, точно к празднику святому, готовилось небо, очищая себя от почивавших на восточном его горизонте облаков. В ближайших хуторах слышался крик петуха. Звезды начинали меркнуть и исчезать в эфире неба; на Немышле изредка раздавались крики заночевавших гусей; перепела во ржи перекликались; в выси неба жаворонок пел утреннюю молитву богу. И всю эту богатую плодами землю, и всех этих вещунов близкого рассвета утра, точно охраняя от беспредельной и всепоглощающей вечности, покрывал дивный купол неба, казавшийся высеченным из чистого кобальта…
Матруся, закрыв лицо руками, безмолвно молилась…
Между тем Трофим, пользуясь тем, что она стояла к нему спиной и не видела его, тихонько, почти ползком подошел к ней и со всего размаха навыкшей руки кровельщика ударил ее зубилом по голове.
Как скошенный стебель травы, свалилась Матруся и обагрила своею кровью только что расцветшие цветы полевого жасмина и белой ромашки. Ее череп был раздроблен до мозга, она была убита.
Трофим толкнул ногой свалившуюся Матрусю и, убедившись, что она убита, злобно промолвил:
- Вишь, проклятая. Теперь не будешь ты пугать людей да искать, кто разорил твою яму…
Взваливши на плечо окровавленное зубило, Трофим быстро и со спокойной совестью пошел по столбовой дороге по направлению к Харькову.
Возвратившись в мастерскую, помещавшуюся на Нетеченской набережной, в доме, бывшем Карталова, у маленького мостика, через проток реки Нетечи, Трофим встретился со своим хозяином, кровельщиком Сухотиным. Обрадованный такою встречею, он поспешил ему рассказать, что он убил и как убил ту самую мертвячку, которая ходила по городу и искала того, кто разорил ее могилу.
- Ну, дяденька-хозяин, теперь мертвячка проклятая не будет пугать людей и шляться по ночам. Я ее зубилом убил, – весело, похваляясь своим подвигом, говорил Трофим.
- Да что ты, сумашедший, говоришь? – с ужасом крикнул хозяин. – Какую там мертвячку ты убил?
- Ей богу убил. Вот посмотрите на зубило, – оно все в ее чертовской крови.
Недолго размышляя, Трофима связали и сдали полицейскому начальству, которое не медля препроводило его в восторг.
Начались допрос и следствие. Восемь лет просидел Трофим в остроге, пока суд постановил решение по его делу. Ему уже было двадцать шесть лет от роду. Быть может, сидел бы он в остроге еще большее число лет, если бы не встретилась необходимость поспешить с решением по его делу.
В похвалу того времени нужно сказать, что тогда было меньше острогов и домов заключения, чем теперь. И потому в харьковскую тюрьму приходилось заключать не только преступников, совершивших преступления в г. Харькове, но и в других городах. Это нередко вело к тому, что в харьковском остроге становилось слишком тесно и нужно было употребить экстренные меры для освобождения нескольких мест в виду ожидаемого прибытия этапа арестантов и уездов губернии. Началась проверка заголовков уголовных дел, и откладывались к немедленному решению те дела, которые ожидали резолюции пять и более того лет. А так как Трофим сидел в остроге уже более восьми лет, то его дело и было немедленно решено и сдано к немедленному исполнению.
- И зачем вы задерживаете такие старые дела? – с неудовольствием говорил председатель уголовной палаты своему секретарю.
- Тут недостает свидетельского показания о его умственных способностях, – ответил секретарь.
- Какие там умственные способности? – нетерпеливо возразил председатель. – Подсудимый – видимый дурак, а вы толкуете о его умственных способностях. Сегодня же напишите резолюцию: наказать его пятьюдесятью ударами плетей через палача и сослать в каторжные работы на двадцать лет. Вы знаете, что нам нужно очистить в остроге место для нового этапа?
Приказание было в точности исполнено, и через пять дней после решения Трофима везли через весь город на Конную площадь. А вслед за ним, в последующие дни везли других преступников, таким способом очищая место для имевших вновь прибыть арестантов. И для обывателей спектакль, напоминавший арену римского цирка.
Толпами за колесницей шли и бежали старики, старухи и молодые девушки, женщины с грудными детьми, дети всех возрастов и обоих полов и, к стыду прошедших лет, на площади, где был устроен эшафот, стояли коляски или парные сани, запряженные тысячными рысаками, которые горделиво храпели и рыли копытами землю, кичась, что в экипажах, ими везомых, сидели молодые и старые дамы, а рядом с ними и красавицы-барышни. Умышленно умалчиваю о том, чьи были эти лошади и экипажи, так как непристойно поминать лихом то, что давно уже миновало.
Тяжело смотреть на такие сцены, но тяжело и описывать их. Трофим не выдержал тяжкого наказания и в тюремной больнице, пролежав с неделю, умер. А толпа. Шедшая и бежавшая за его колесницей, возвращаясь, галдела на разные лады.
- Вишь, варвар Трошка! Так ему и надо, – говорили одни.
- Да как он, бедняга, не разглядел, что это не мертвячка, а живая девушка? Знать, крепко выпивши был, – говорили другие.
- Ну вот, поди ж ты. Сказано: мастеровой человек – шел с работы, ну и выпил…
- А тут дьявол подвернулся. Уж он рад попутать человека крещеного, - в ответ заканчивал мысль своего собеседника шедший рядом портной.
- Да, да. Истинно так. Правильно изволите говорить, – утвердительно отвечал собеседник.
- Да так ему и надо, – где-то в стороне слышался возглас.
- Нельзя не наказывать. Только строгостью и можно исправить людей, – с достоинством говорил какой-то майор в отставке какой-то шедшей с ним разодетой барыне.
А дети?
О, дети, юные и чистые души, еще незапятнанные кровью ближнего, они группами возвращались с этого занятого зрелища и, переполненные вынесенным впечатлением из виденной ими живой картины, перебивая и не слушая друг друга, рассказывали, перечисляя малейшие подробности о том, как палач засучил рукава себе, да какая у него была плеть, да как крикнул подсудимый от первого удара и как потом, на седьмом ударе, замолчал и уж больше не кричал.
- Нет на восьмом! Я сама считала, – уверенно противоречила девочка.
- На восьмом? Ты много знаешь, – с негодованием протестовал мальчик.
- Я сам считал тоже, – кричал второй мальчик. – Он замолчал на десятом ударе. А потом начал стонать…
- Да, да, – крикнула обрадованная известием девочка. Он начал стонать…А потом замолчал…
И шли дети, все по-прежнему жизнерадостно и горячо делились они впечатлениями ими виденного зрелища. И что сеялось в эти минуты в их души, представляющие собой неистощенную и разрыхленную почву, на которой всякое зерно способно принести плод сторицею? И что кому из них более всего понравилось и что у кого запало глубоко в сердце?.. Никто не задавался такими вопросами и никто не ведал и не подозревал ничего, пока возросшее семя не разрешалось расцветом черного цветка, полного безобразия и зловонного запаха, в тяжелые годы их возмужалости.
Среди всей этой толпы детей одна девочка вела под руку брата своего калеку, который , на костылях и при помощи сестры своей, едва мог идти, а все же шел и выстоял весь процесс наказания.
- А как ты думаешь, Вера, отчего это убийца перестал кричать? – спрашивал сестру свою калека.
- Пойдем, пойдем скорее, Миша. И зачем мы пришли сюда? Господи, как мне жаль его…
- Да что ты, Вера, одурела? Убийцу тебе жалко? – сердито возражал калека, едва передвигая ноги.
- Миша, Миша, грех тебе будет. Уйдем скорее, – и Вера повернула за угол в улицу, противоположную площади казни.
Описавши целый ряд способов и возможностей пользоваться развлечениями и увеселениями совместно со зрелищами, какие выпадали на долю бедного и трудолюбивого люда того времени, я на этом последнем описании мог бы остановиться.
Но для полноты перечня всех развлечений я опишу еще некоторые из временных увеселений.
Время от времени приезжал в Харьков цирк, состоявший из сборной бродячей труппы клоунов, акробатов и наездников. Он строил для себя временный балаган из шелевок на Михайловской площади. Большой величины обруч, обставленный кругом сальными свечами, представлял собою люстру, которая висела посредине цирка. По краям были сделаны стойла, которые назывались ложами, а затем амфитеатром шли скамьи вокруг всей арены цирка.
Желая привлечь в свой цирк побольше зрителей, антрепренер цирка время от времени открывал по улицам города торжественные шествия. Колесница, на двух колесах, древне-римского фасона, какие обыкновенно изображают на фронтонах театров и на триумфальных арках, запрягалась парою лошадей. Молодая наездница, римском костюме времен цезарей или же молодой наездник, одетый в трико и в тоге, сопровождении клоунов и наездниц, верхом, костюмах вакханок, с жезлами в руках и в венках из виноградных листьев, в день большого представления ездили по большим улицам города, трубили в трубы и тем привлекали к себе внимание жителей, возбуждая желание побывать в цирке.
Также временно наезжали в Харьков зверинец и помещался с своим балаганом на Николаевской площади, где в настоящее время возвышается фонтан. Ревели по ночам львы, рычали гиены и раздирали уши своим криком обезьяны. При зверинце почти всегда находился украинской породы бык или теленок, у которого по странной игре природы была какая-либо аномалия в наружных частях тела. Это считалось чудом из чудес, и зверинец всегда посещался усердно публикою.
Наезжал также в Харьков время от времени музей, в котором было все, кроме редкостей.
Монаха Шварца был карман,
И знаменитой Ленорман,
Там были тройка, туз, валет,
Которыми она Наполеону,
Вещали царскую корону;
Там Лютера висел жилет,
Убийцы Генриха стилет,
И масляный троянца Гектора портрет.
Там было все. Из золота морского слитки,
И инквизиции там были пытки,
Костю Батыя, весь из шелка…
Лишь не было там редкостей и толка.
Приезжала в Харьков и панорама, в которой показывались города Европы с непременным Парижем и Стамбулом во главе. Были видны Венеции, по каналам которой разъезжали лодки, напоминавшие байдарки на Дону. Но виды городов России, даже Москвы и Киева, всегда отсутствовали. Не было недостатка и в веселых картинах. Показывали римский карнавал и двух английских боксеров, с оголенными по плечо руками и в русских рукавицах.
При панораме, также и при музее, как необходимость без которой музей – не музей, всегда в особом помещении и за особенную плату показывалась прекрасная Венера. В панораме эту Венеру, изображенную красками на плотине, представляла нагая рыжая девушка с носом, вздернутым кверху, и с хорошо откормленным телом. А в музее на оттоманке лежала восковая фигура, изображавшая нагую девушку довольно жирную и некрасивую. В одной руке она держала конец чубука от кальяна, тут же стоявшего, а другой рукой поддерживала свою голову.
Глупо смотрела Венера стеклянными глазами на зрителей; а грудь ее вздымалась так высоко, что напоминала отдышку после жирного обеда и хорошей выпивки. На обывателей же города эта дышащая Венера наводила и ужас, и удивление, заставляя потом много дней рассуждать о великом искусстве иностранцев.
Все эти редкости и дикости базарного искусства смотрели обыватели города за свои трудовые гроши. И составляли они по ним понятие о предметах, о городах и людях, с которых снимки были достоянием музеев и панорам…
Для законченности начертанной мною картины я ко всему сказанному могу только прибавить еще несколько слов о свадьбах, которые длинные мясоеды доставляли обывателям города не малое удовольствие. Но что это было за удовольствие? Это было время разгула и безобразной вакханалии в продолжение трех и более дней после каждой свадьбы. Справляющие свадьбу, так же как и принимавшие в ней участие, все эти дни, кроме расхода и убытка, для себя ничего не имели. На другой день свадьбы молодые, сопровождении сватов, свах и других членов свадебного штата, шли по улицам города с музыкантами к отцу и к родным как жениха, так и невесты, и во время их шествия картины скабрезного характера следовали одна за другой. Напрасно канкан приписывают изобретению парижан. Это танец архаического происхождения и ведет свое начало от времен доисторических. Все дикие племена совершают свои скотские оргии с этим танцем. И у нашего простого народа свадебные танцы, даже танцы при религиозных обрядах некоторых сектантов имеют характер канкана. Тем же характером отличаются танцы свадебные у малороссиян. Танцы – «журавель», «Метелица» и другие – полны движений, напоминающих симптомы болезненной нимфомании и сатириазиса[59]. При этом поются женщинами песни такого содержания, что ухо, облагороженное воспитанием, не может слушать их равнодушно. И все это совершалось и пелось открыто, на улицах и площадях, привлекая к себе внимание мальчиков и девочек, которые кучками бежали за свадебным кортежем и с малых лет научались тому отвратительному обычаю, который в зрелые годы служит почвой для развития дурных инстинктов.
Никто не решиться отрицать, что жизнь человеческая длится сама собою, без участия кого-либо извне ее, на две существенные половины: на половину, переполненную трудом, и на другую половину, предназначенную для отдыха и удовольствия. Но важно то, что нет такой силы и власти на земле, которые бы могли подавить у человека стремление к удовольствию и отдыху. И потому, если нет отдыха и удовольствий высшего порядка, которые смягчают нрав, развивают ум и облагораживают образ жизни, то человек, согласуясь с уровнем своего развития, сам создает себе и отдых и удовольствие, не справляясь о том, хороши они или нет.
Но такими мыслями доброе старое время не задавалось, и потому простые обыватели города, к сожалению, как я уже указал выше, пользовались и отдыхом, и удовольствиями жизни, заставлявшими желать много лучшего.
К рассказу об удовольствиях, какими пользовались обыватели Харькова, считаю не лишним присовокупить кое-что о тех неудовольствиях, какие нередко выпадали на долю их от самоуправства и хищнической воли богатых жителей города. Особенно страдали от этого крестьяне, привозившие на базар, в воскресные дни, сено, овес, муку, живую птицу и другие сельские продукты для продажи. Затем жертвами самоуправства и хищничества являлись торговки, которые, живя на окраинах и в предместьях города, на Ивановке, на Журавлевке и на Основе, занимались приготовлением к продаже различной птицы, масла, творогу и разной огородной зелени. Но эти постоянные торговки городского базара насколько страдали от самоуправства богачей и власть имевших, настолько и сами изощрялись в смелом и хищническом способе приобретения вышеперечисленных продуктов от простодушных и доверчивых сельских жителей.
Торговки в субботу вечером и воскресенье с рассветом дня целыми группами, разделяясь при этом по специальностям своей торговли – на птичниц, на масляниц и на огородниц, – выходили за версту и более того загород на дороги, по которым обыкновенно везли крестьяне свои продукты в Харьков для продажи. Едва такая подвода успела приблизиться к группе женщин, ожидавших ее, как ее хозяина-крестьянина обступали кругом, лошадь с подводой останавливали и начинали приторговывать всю птицу и весь продукт, помещавшийся на возу. Торг шел ожесточенный, и от крестьянина требовали, чтобы он углом продал свой товар за такую-то сумму. При этом шли неистовые божбы и уверения, что на базаре ему не дадут такой высокой цены за товар, какую они ему предлагают. Настаивания и уверения были так горячи и отличались таким враждебным тоном, что их нельзя было отличить с первого взгляда от настойчивых требований и даже более того.
Крестьянин, добродушный и доверчивый, после борьбы с этими пешими амазонками, наконец, сдавался на капитуляцию и продавал им весь свой товар, не довезя его до базара. Быстро покупщицы, отдавши деньги, разбирали товар по рукам и возвращались в город, предварительно согласившись между собой держать цену. Было не мало в Харькове чиновников и купцов, которые приходили на базар, выбирали для себя необходимый товар и, назначая сами за него цену, швыряли деньги крестьянину или торговке и уезжали с отнятым товаром домой. Особенно отличался таким способом покупки жизненных продуктов весьма богатый купец Кутильников,[60] имевший дом на Николаевской площади, ныне принадлежащий Васильеву. Кутильников был известен всем именем «Прима».
Он имел привычку почти за каждым словом говорить: «прим сказать» (сокращение – примером сказать) и потому его все и знали под именем «Прим».
Появление «Прима» на базаре среди торговок производило панику. Первая торговка, увидавшая его, спешила передать даже недругу своему – соседке, что по базару ходить «Прим». Что было особенно редкого и дорогого, немедленно пряталось; но «Прим», наподобие Чингисхана, настигал и выхватывал своими загребущими руками то, что ему приходилось по сердцу. Если же какая-либо торговка не желал брать за товар предлагаемую цену, то его камышовая палка немедленно начинала убеждать торговку в безрассудном ее упорстве и тщательно массировала спину и ребра несговорчивой продавщицы. Впрочем, «Прим» не составлял собою исключения.
Если «Прим» выбирал себе два-три воза сена или овса, то, не спрашивая крестьянина о цене, приказывал везти возы с сеном в его дом, следуя за ними экипажем, нагруженным разными жизненными продуктами, приобретенными при посредстве камышовой палки. Во дворе своем «Прим», сложивши сено, отдавал крестьянину ту сумму денег, какую он желал ему дать. Всякое сопротивление крестьянина оканчивалось тем, что его выгоняли со двора и запирали за ними ворота. И не было во всем городе ни места, ни человека, у которого обиженный крестьянин мог бы найти для себя суд и защиту…
Мне приходилось не раз слушать хвастливые отзывы о том, что в настоящее время санитары тщательно следят на базарах за доброкачественностью и свежесть провизий. Но и в описываемое мною время еще с большим тщанием следили за тем же. Особенно ревностно следил за этим квартальный Дудышкин, с которым я недавно познакомил читателя моих воспоминаний.
Дудышкин обыкновенно приходил на базар в сопровождении полицейского солдата, который нес из дерюги большой мешок. Пройдя к торговке, у которой была битая птица, он приказывал солдату взять в руки указанную им индейку и понюхать, не имеет ли она запаха испорченного продукта.
- Ну, что? – спрашивал квартальный у солдата. – Воняет?
- Воняет, ваше скородие, – отвечал солдат.
- Я так и думал, – с негодованием говорил Дудышкин. – Вот так доверяться им, этим сатанинским душам. Клади индейку в мешок…
- Да что вы, ваше высокородие? – вопила торговка. – У меня вся птица ночью резана, теперь видите какой мороз. Ей-богу, свежая…
- Молчи, молчи, глупая, а не то я весь товар твой забракую… – сердито и внушительно отвечал Дудышкин и продолжал пересматривать овощи у ее соседок, тщательно откладывая в мешок все, по его мнению, негодное для пищи, радея, конечно, о здоровье городских жителей. А солдат-эксперт, как неподкупный гигиенист, определял достоинство и качество товара…
Такою жизнью униженных и оскорбленных бесправных и угнетенных жило значительное большинство населения Харькова в описываемые мною сороковые и пятидесятые годы. Жизнь этого населения при неусыпном труде и скудном заработке, при полной зависимости от произвола оценки труда и работы, при скудных удовольствиях сомнительного достоинства; жизнь, какая-то полумонастырская, при ограниченном куске хлеба и без духовной и умственной пищи, тянулась вяло. В молчании проводили люди дни и годы своей жизни, ходили во тьме ощупью и руководились преданиями своих отцов и дедов.
Без крика и шума надвигалась новая полоса жизни. Поколения сменялись поколениями, и люди уже не раз, после радостной встречи первой весны, переживали зиму и стужу непроглядной старости, сознавая в душе, что:
Старые свои, чай, кости,
Пора покоить на погосте…
Шло время, говорю я, а на востоке едва заметною полосой занималась, между разорвавшимся пластом нависшей тучи, светлая, отрадная заря новой жизни…
Севастопольская война была в полном разгаре. Отчаянный бой защиты своей родины дошел до крайней степени своего подъема.
Не только военные люди, но и граждане города, обыватели сел и деревень как будто слились в одну неразрывную силу, в титаническую мощь легендарного богатыря земли русской, и ополчились на врага, отстаивать пядь земли, когда-то омытой кровью русского солдата. Не было дня, чтобы в Харькове не приезжали из Севастополя раненые и выздоравливающие воины славной рати.
И что за чудные дни жизни пережил в то время харьковцы, слыша постоянно от храбрых бойцов за родную землю о различных подвигах храбрых солдат, о чудодейственной храбрости Корнилова, Тотлебена, Хрулева и о различных пластунах-охотниках[61], искусно и удачно делавших вылазки против неприятеля.
Раненые и выздоровевшие, но уволенные в продолжительный отпуск на поправку, по распоряжению начальства, размещались по домам, на частых квартирах, бесплатно. На содержание же их отпускали сумму тем, которые не желали безвозмездно кормить раненых. Не утверждаю, чтобы все, но не помню таких, которые бы желали получать провиантные деньги. Все богатые и зажиточные люди города с радушием давали защитникам отечества приют, покой и пищу.
Высшие чины и офицеры действующей армии имели квартиры в домах и семьях богатых дворян, чиновников и купцов. И лишь немногие из богатых купеческих семей отказывали им в квартирах и на свой счет нанимали для них номера в гостиницах, платя свои деньги за содержание. Причиною этого, в большинстве случаев, были взрослые дочери, при которых принимать в дом молодых квартирантов, считалось неподходящим делом. Но таких семей и домов было весьма немного. Они преимущественно принадлежали богатым купцам старообрядческого толка.
Об этом я буду говорить более подробно в следующих главах. Итак, как я сказал, что отрадная заря уже загоралась на востоке, что светлый рассвет радостного утра чувствовался всеми. Несмотря на то, что в местных «Ведомостях», как и вообще в прессе, не было никаких намеков на нововведение, но бог весть почему начали блуждать среди народа слухи о какой-то воле, о каких-то отпускных и об уничтожении дней барщины. Хотя не мало было стариков, которые этим слухам не придавали серьезного значения и даже совершенно игнорировали их, слухи, тем не менее, не переставали циркулировать среди народных масс, производя на них отрадное впечатление.
Так внешние вод ничтожным и едва заметным отверстием пролагают себе путь через запруды и уносят то, что мешает им широко разлиться на нивы, жаждущие влаги…
В последней статье моей я остановился на рубеже шестидесятых годов. Но я был бы не прав, если бы в настоящее время повел речь о Харькове, каким он был со своим обывателями в шестидесятых годах. Много еще не сказано о том, что творилось в пятидесятых годах, и потому мне не раз придется возвращаться к этим годам, чтобы заполнить образовавшиеся пробелы, так заметные для наблюдательного человека.
Возвратившись из-за границы, я, как художник, был озабочен, когда мне сказали мои товарищи по профессии, что в Харькове не требуются ни картины вообще, ни пейзажи в особенности, и в художниках Харьков не нуждается. Что же касается скульптуры, то о таковом звере харьковцы даже не имеют никакого представления, если не считать за скульптурные произведения гипсовых котов, качающих на проволоке своими головами. Хотя спешу сказать, что в то время в Харьковском университете был небольшой музей изящный искусств, а на кафедре по истории изящных искусств был академик Репин, дом которого находился на углу Екатеринославской улицы и Жандармской площади. Кроме почтенного академика Репина, в то время в Харькове были художники: два брата Колтуновские, Савицкий, Карпов, Гринфельд, Глентцнер,[62] Волошинов,[63] Бесперчи и один из выдающихся живописцев – Куликовский, имя которого осталось в названии Садово-Куликовской улицы, на которой он первый поселился, почти среди леса, и имел собственный дом с живописною мастерскою. Его конкурентом по работе, не менее талантливым, был живописец Д.О. Ланевский. Что касается художников академического образования, то, бесспорно, в то время выдающимся художником был Бесперчи, который, после попыток Венецианова и Федотова начать писать картины из народной жизни, одним из первых остановился на народных сюжетах – из жизни малороссиян. Не менее талантливым художником по портретной живописи был художник Ладин, сын известной и талантливой актрисы Ладиной, имевшей амплуа комических старух, свах и ворожей. Затем, художник Волошинов, специальность которого была перспективна и nature morte[64] избранного им жанра искусства.
Кроме этих представителей искусства в Харькове, в те годы я застал помещицу Звереву, имевшую свой дом на Михайловской площади, ныне принадлежащий С.Ф. Мирошкину. Любили также рисовать масляными красками – г-жа Танская, помещица Кульчицкая, девица лет восемнадцати, с которой художник Ладин, как портретист по специальности, написал прелестный портрет с известной в то время красавицы княжны Ахматовой, произведшей хорошее впечатление на академической выставке в Петербурге. Помещица Кульчицкая хорошо работала акварелью портреты-миниатюры на слоновой кости, но не жила постоянно в городе, а наезжала из своего богатого имения в Харьков, преимущественно в Троицкую ярмарку. Но было бы грешно умолчать об акварелисте студенте Левдике, писавшем портреты. При университете в то время был синдиком[65] Касинский; как дилетант и любитель, он рисовал масляными красками и считался непогрешимым судьею по оценке художественных произведений. А если к этому перечню мы прибавим три-четыре иконописных мастерских, имевших по пятнадцати живописцев, то недочет в перечне художников выразится в лице двух-трех личностей, не игравших особенно важно роли в деле искусства.
Еще в те годы был известен живописец Грицко Хмара, страстно любивший искусство и положивший живот свой за него. Но о нем, впрочем, буду говорить особо.
В Харькове в описываемые годы не было ни одного магазина картин и эстампов, где бы можно было купить какую-либо гравюру или какой-либо эстамп. О городском музее и помышлять не было никакой возможности уже потому, что никто никогда о нем не говорил и никто в нем не нуждался. Если же иной раз молодой чиновник проездом из Петербурга хвастливо заводил речь об Эрмитаже и его драгоценностях, что несколько щекотало и возбуждало умы юных обывателей города, то на сожаления, что у нас нет картинной галереи, немедленно появились возражения со стороны отцов и дедов, столпов и мудрецов богоспасаемого града, его же твердыню ни громы не поколеблют, ни разверзшиеся хляби не помоют, дондеже старцы мудрые не умрут и град великий не оставят на руцех юности неразумной.
- Да что ты, Павел, глупые желания лелеешь в душе своей? Разве можно нам, провинциалам, нам, маленьким человечкам, мечтать о музеях, о картинах, об Эрмитаже? Эта роскошь только царям впору да богачам. Да и на что нам эти картины? – обыкновенно отвечал отец своему сыну, увлекшемуся рассказом проезжего петербуржца об Эрмитаже и его сокровищах.
И мудрый отец по-своему был прав.
В Харькове, в предместье Основа, в собственном имении жил богатый помещик Квитка,[66] у которого была прекрасная и весьма разнообразная картинная галерея, вмещавшая в себе картины кисти известных художников шестнадцатого столетия. А из современных тому времени знаменитостей были картины Айвазовского и Калама. Кроме того, эта картинная галерея была богата значительным количеством эстампов, гравюр, акварелей и набросков карандашом известных мастеров. Но никто не интересовался этим хорошим собранием художественных произведений, относясь к нему не с любовью, а скорее терпеливо, как к слабости богатого русского барина.
Весьма интересные картинные галереи были у Кузина и Алфераки. Но о их существовании знали весьма немногие, хотя доступ к ним был не так труден, как, быть может, это думали.
В небольшой картинной галереи Кузина была весьма выдающейся художественной работы картины внушительных размеров нашего известного баталиста академика Бабаева, «Взятие крепости Гуниба, на Кавказе – место резиденции Шамиля». Не менее прекрасной работы написаны им наместные образа в домовой церкви архиерейского дома по заказу архиепископа Филарета.[67] Василий Великий, совершающий литургию, особенно вышел удачным по экспрессии и правде, верной натуре. Бабаев писал все предметы, вошедшие в сюжет образа: ризы, престол, чаши, дискос, евангелие, светильники и проч. И проч. С натуры, почему образ представляет собой нечто жизненное, влекущее к себе и возбуждающее религиозное настроение у молящегося. К сожалению, по неизвестной причине, с образов кисти Бабаева написаны копии и вставлены в иконостас, а оригиналы развешаны по стенам домовой церкви…
Не менее интересен и талантлив по работам был художник Бесперчи. Он разрабатывал сюжеты из народной жизни малороссиян. Размер его картины всегда был небольшой, кабинетный, но по сюжетам всегда его картины были полны интереса и жизненной правды. Особенно мне памятна картина его работы: крестьянка лет четырнадцати ведет своего седовласого старика-отца, несколько охмелевшего, домой – «до своей хаты» – из шинка. Все небо покрыто темною грозовою тучею. Ветер уже начал крепчать и вот-вот туча заволокнет собою солнце, ярким пятном отразившее свои лучи на смуглом лице старика и на белой сорочке девочки, со страхом смотрящей на движение тучи.
Не менее прекрасны были пейзажи Гринфельда. Его «Пожар в деревне ночью» и «Задний двор малороссиянина» особенно были хороши и правдивы.
Все это было и говорило само за себя, а среди харьковской публики не находило себе сочувствия.
За исключением весьма немногих личностей большинство настолько относилось холодно и индифферентно к искусству, что живопись считалась несерьезным занятием, не продуктом таланта и влечения, а забавой (правда, благородной, желательной забавой) в свободное время. И потому меня на первых порах поражали требования знакомых, посылаемые по моему адресу, «Написать картинку» то тому, то другому, не придавая никакого значения труду и искусству, могущим быть затраченными на выполнение такого интересного заказа. Да и вообще, как я уже сказал, на это занятие смотрели как на приятное препровождение времени.
- А вы все картинки рисуете? – задаст вопрос внезапно зашедший к художнику гость, заставший его за работой. – Занятное, я вам скажу, дело. Но только не прибыльное. Вы бы лучше на службу поступили. Знаете ли, все как-то виднее и прибыльнее.
И так говорит другой, третий…
И вот художник, насидевшись вдоволь без заказов и без продажи картин, начинает хлопотать о месте и, пристроившись в гимназию учителем чистописания и рисования, складывает свои художнические доспехи и начинает выводить прежде элементы буквы, а потом отдельные буквы и, наконец, целые слова. А впереди…старость, со слабостью зрения и пряжка за сорок лет службы без пенсии. И для того, чтобы закончить такие великие блага мира сего, нужно было строить громадное здание академии с завидным штатом служащих, а учащимся – пробыть на скамьях не менее шести лет, а затем художникам, с выдающимися способностями, ехать на три года пансионерами за границу для приобретения и высших знаний по искусству и высшего знания по академическому уставу.
По возвращении из-за границы незаметно тратится еще год на заботы по отчетности в качестве пансионера и претендента на высшую степень. И так десять лет усидчивой двенадцатичасовой работы, утром и вечером, в классах академии, пребывания за границей, высшая степень, специализация в отделах живописи, – все это сводится к одному жалкому знаменателю: к обучению детей чистописанию (?) и (самое счастливое положение!) – к превращению себя в мастера иконописных дел. Я с умыслом не упомянул об уроках рисования, идущих рядом с уроками чистописания. Как в мужских гимназиях, так и в частных пансионах того времени, мужских и женских, уроки рисования – это были часы нравственной пытки для учителя. На уроках рисования обыкновенно рисовать не учились, а шалили. Крик, шутки, еда пирогов и разной закуски, переписка стихов и спряжение глаголов на французском языке, насмешки над учителем, кидание шариков из жеваной бумаги в потолок и на классную доску и пускание посредством щелчков бумажных петушков на классный журнал – вот те занятия, которые сопровождали каждый раз класс рисования. Ни угрозы учителя, ни ласковые просьбы, ни даже плохие отметки в журнале за поведение и успехи – ничто не помогало. Да оно и понятно. Классы рисования стояли вне рамок распределения лекций. Отметки по рисованию не принимались во внимание, и самый предмет рисования считался приватным, ненужным, бесполезным…
Я сказал выше, что художник, посвятивший себя иконописному искусству, как сделал это баталист Бабаев, Бесперчи, Репин, да и все другие, был в то время еще в положении завидном. Но что это за работа была и какие заказы приходилось исполнять ради насущного куска хлеба? Для иллюстрации этого я прошу читателя проехаться со мною по городам и весям, чтобы воочию увидеть заказы и заказчиков.
В имении вдовы генерала Тарасова, Воронежской губернии, я работал иконы для вновь выстроенной ею в деревне церкви. Почтенная старушка имела двух молоденьких внучек, которые к сожалению, умерли, заставивши ее последние годы своей жизни оплакивать их преждевременную кончину.
У нее остались два небольших портрета, писанные акварелью и по ее замечанию очень похожие на усопших ее внучек. Им было лет по пятнадцати, не более. Добрая и чадолюбивая бабушка захотела увековечить их красоту и поставила меня в обязанность написать с их портретов на северные и южные двери архангелов: Михаила и Гавриила, сохраняя при этом в лицах точное сходство с портретами.
Дилемма была такова: или весьма интересный заказ и полное расположение заказчицы, или – отказ с плохим отзывом обо мне как о художнике. Я выбрал первое и написал двух архангелов с портретов ее любимых внучек.
Исполнивши ее заказ, я по ее же рекомендации, получил заказ в сорока верстах от ее имения у брата ее мужа, тоже генерала Тарасова, когда-то служившего на Кавказе и вследствие серьезной раны вышедшего в отставку.
Генерал по своему характеру был противоположностью доброй и любезной сестры своей. Он был настойчив, груб и даже деспотичен. Не любил генерал противоречий, почти не имел терпения выслушивать мнение идущее вразрез с его мнением, и при малейшем с ним несогласии немедленно принимал вид наступающего воина и переходил в разговоре с вы на ты.
Иконы для его церкви я писал зимою у себя на дому, а летом привез их на место назначения, предполагая сдать работу и возвратиться в Харьков. Но мои надежды не оправдались.
Боевой генерал принял меня весьма радушно, отвел в мое распоряжение целый флигель в шесть комнат и три прислуги, с отдельным экипажем и парою лошадей, так как вследствие задержки работ по иконостасу мне предстояло прожить в его имении около месяца.
Генералом постлано было для меня очень мягко, но спать оказалось твердо.
Распаковав иконы и приведя их в должный вид, я сделал в отведенном мне флигеле выставку и пригласил генерала осмотреть исполненный мною его заказ.
Генерал тщательно осмотрел иконы, на некоторых попробовал пальцем доброту красок и грунта, спросил, употребляю ли я охру, и если употребляю, то какую – простую или заграничную, и, наконец, перешел к добротности лака, которым должны быть покрыты иконы.
- Вот уж я бы на лики Иисуса Христа и матери божией совсем не употреблял охры. Помилуйте: охрою полы красят и ею божественный лик пишут! Совсем не пристало…
- Почему же? – возразил я. Охра – это общепринятая краска. А в Академии она считается основною краскою…
- Да что Академия? И в Академии вашей болваны учат делать несообразности.
Наконец генерал подошел к изображению архангела Михаила.
- Это кто такой? – спросил генерал, указывая на архангела.
- Это – архангел Михаил, – ответил я.
- Гм. Что же это он? Не холодит и не греет; не мылит и не бреет?
- То есть как это? Я вас не понимаю, генерал.
- Да очень просто. Он – воин. Его миссия – побеждать. А вы написали не то юношу, не то душеньку, которая сердится за то, что модистка нового платья не несет. Куда этакому с дьяволом сражаться? Будь у меня в строю такой солдат, я бы его сдал в госпиталь. А на войну не годится…
- Но видите ли, генерал… – начал было я в свое оправдание.
- Да что там видеть! Вы, конечно, не виноваты. Это Академия так учит. Когда я был в Петербурге, то был приглашен в комиссию по пересмотру академического устава. Я тогда доказывал, что для прогресса искусства необходимо вменить в обязанность господам преподавателям придерживаться не античной красоты лиц и фигур, а соответствия типам изображаемых лиц. Если архангел был воин – ну и надо изобразить бравого, рослого и сильного воина… А это у вас кто такой? – спросил генерал, указывая ни Иуду, на иконе «Тайная вечеря».
- Это, конечно, Иуда, – ответил я. – Вот и кошелек с деньгами он держит в своих руках.
- Вот опять несообразность. Вы мне изобразите его в сивой шапке, чтобы всякий, кто взглянет на него, сразу бы узнал…
- Но…
- Да что там «но»! – Я говорю – значит, надо сделать, чтобы нам не ссориться и расстаться так, как встретились. Ты, меня, друг, не серди! – закончил генерал и вышел из моего флигеля.
Я терялся и не знал, что мне делать. Но, говорят: «человек ночь переспит и уже другим становится». Проспав плохо ночь, я утром отправился к священнику с желанием посоветоваться с ним о таком капризном требовании генерала.
Отец Стефан, старенький священник, тихий нравом, отчасти флегматичный, по экспрессии лица как будто чем-то удрученный и приниженный, выслушал мой рассказ о требовании генерала Тарасова.
- Что ж я вам скажу, милый молодой человек, – разведя руками сказал мне отец Стефан: – сказано в писании «твори волю пославшего тя», – стало быть, и надо творить, так как вы не будете грешны, а он будет грешен против соборных постановлений по иконописанию. А тут, видите ли, скажу вам, дорогой мой: генерал наш уж очень крутенек. Вот третьего года приехал к нему молодой, вот как вы, землемер, вызванный по его желанию для промерки земли. Дело в том, что соседи генерала, казенные крестьяне, оспаривали у него полторы десятины земли, которые он будто бы неправильно присвоил себе. Молодой землемер сделал промер его земли, и казалось, что против утвержденного плана у генерала не полторы, а почти две десятины лишних. Но землемер об излишке уже молчал. Между тем Тарасов требовал, чтобы землемер отказался. Между ним и генералом начались пререкания и несогласия. А знаете ли, чем все это кончилось? Генерал завел землемера в свой сарай и там высек его как должно быть.
- Что вы, отец Стефан, говорите? – вскочивши с своего места, возразил я почтенному старцу. – Да какое же он имел право на это? Да куда же смотрели, наконец, господ исправник, становой и прочие власти?
- И полноте: все эти люди свои! Будут они ради землемера за правду стоять? Вы знаете, как генерал принимает на праздниках причт церковный?.. Вот в прошлую святую пасху пришел я к нему с причтом поздравить его с праздником и похристосоваться. Но куда тут христосоваться, коли он никому руки не подаст?
- Да, да! – поспешил я подтвердить сказанное. – Он и со мною повидался, не подавая мне руки. Я к нему, а он обе руки заложил за спину, да так со мной и разговаривал все время.
- Он со всеми так, за исключением равных и высших себе. Да. Так вот мы пришли к нему с поздравлением. Он вышел, помолился, поцеловал крест и, пробормотав вполголоса «воистину воскрес», ушел, ничего не сказавши. Ждем мы и ждем, а уйти не имеем права, пока он не вышлет сказать, что мы можем уйти. Наконец лакей выносит на подносе всем нам троим по рюмке водки и по куску пасхи. А на каждом куске лежат деньги по чину: священнику, мне – один рубль, диакону – полтинник и пономарю – четвертак, что мы и приняли, по указанию его лакея, который, раздавши нам великую и богатую милость своего властелина, сказал: «теперь барин сказал, что вы можете идти домой». И так каждый год.
Не могу я не остановиться на личности священника отца Стефана Покровского. Худой, высокого роста, с белыми как снег волосами и с длинною, мягкою, как лен, бородкою, с короткими голубыми глазами, аскет по жизни, вдовец по положению, семидесяти шести лет, отец Стефан своим радушным обращением и всегда кротким голосом невольно привлекал к себе того, которому суждено было встретить его на своем жизненном пути. Несмотря на свои лета и на режим жизни, напоминавшей жизнь аскета, отец Стефан не переставал интересоваться всем, что творилось в текущей жизни, и желал стоять в курсе всего, что совершалось на белом свете. Но более всего его интересовали верования и убеждения русских людей и взгляды их на религию. Изучая с полной любовью к делу жизнь и убеждения крестьян, он подметил характерные черты их нравов и сумел взглянуть в потайные уголки их души. Уже он мечтал о школах грамотности и лелеял эту мечту, придавая школам даже преувеличенное значение в их влиянии на благосостояние народа. В беседах с ним, нередко до утренней зари, при теплых июльских ночах мне пришлось выслушать от него не мало веских замечаний касательно благосостояния и развития народа русского. Отец Стефан хотя был вдовец, но жил не один. В его чистеньком домике совместно с ним жила сестра его, старушка почти шестидесяти лет, а по целым дням толкались в его доме крестьянские дети, мальчики и девочки, которых он учил сам грамоте, а главное – по несколько раз в день вел с ними беседы, бесспорно приносившие детям не мало пользы.
Заинтересовал он и меня своими беседами с детьми. Выждав время, когда его окружили дети в его небольшом садике, где стояло несколько ульев с пчелами, а на особенном столбике, покрытом крышею, был врезан в дерево образок св. Зосимы и Савватия, я присоединился к их кружку, чтобы послушать речи доброго и сердечного старика.
Человек восемь детей обоего пола, от десяти до двенадцатилетнего возраста, окружили старика и, жизнерадостно улыбаясь, забрасывали его различными вопросами и жалобами на своих сотоварищей.
- Тише, тише, дети, шалуны вы этакие, – усаживаясь посреди их, весело обратился к ним отец Стефан. – Ну вот ты, Петруша, подойди-ка ко мне поближе, я у тебя спрошу кое-что.
К старику весело подошел курчавый, светлый шатен с голубыми глазами мальчик и, почтительно наклонившись перед священником, протянул к нему руку за благословением.
- Ну, мой умник, голубчик, вот ты скажи мне: господня заповедь говорит: «не убий». Хорошо. Если ты возьмешь толстую дубину или топор и ударишь им человека так, что тот умрет, – будет ли это убийство?
- Конечно, будет, – смело ответил мальчик.
- Умно, голубчик, умно. Ну, а если ты напрасно обвинишь в чем-либо своего товарища и его, поверивши твоим словами, жестоко наказывают?
- Все равно! – ответил Петруша. – И это будет убийство, но только убийство душевное, а не телесное, за которое будешь отвечать перед господом…
- Так, мой дорогой, так, мой голубчик, – радостно сказал отец Стефан и поцеловал мальчика.
- А скажите, отец Стефан, они грамотные? – спросил я у старика.
- Да, эти-то дети грамотные, – ответил мне священник. – Но только что же это? – Капля света в море невежества и тьмы. Да русских детей недостаточно учить грамоте: их воспитать нужно – так я думаю. Ну, а какое уже тут воспитание, коли нет ни школ, ни учителей, ни любви к ним, ни радения об их участии? А уж куда как хороши и пригожи в душе русские дети...Я их достаточно изучил и убедился: если бы не отказали мы им в нашей любви и внимании, наше дорогое отечество скоро не только сравнялось с государствами Запада, а стало бы впереди многих из них.
- А вот, говорят, что скоро будет уничтожение крепостного права, – сказал я в ответ чадолюбивому старцу. – Тогда, поверьте, займется заря новой жизни.
- Слышал я и об этой радостной вести. Дай бог, чтобы было так. Но… мне уж не дождаться этой зари, – с тяжелой грустью ответил старик.
В это время к нам в садик пришел крестьянин и попросил отца Стефана окрестить его ребенка.
- Хорошо, хорошо, друг мой. Приходи с кумовьями я окрещу.
- Что же вы, батюшка, прикажете заплатить вам? – спросил крестьянин, кланяясь.
- Святым крестом, мой друг, не торгуют. Ты приходи с кумовьями и я окрещу твоего ребенка.
- Вы слишком снисходительны! – сказал я, проводивши глазами крестьянина.
- Да мы, я вам кажу, так уж сроднились с черствыми чувствами себялюбия, что если кто на линию отступит от общепринятого правила, уж он кажется лучшим из людей. А он на самом деле – он такой же, как и все, поверьте мне…
Разошлись из садика дети, и последние лучи заходящего солнца уже потухали наверху старой развесистой березы. Я поднялся с своего места и начал прощаться с отцом Стефаном.
- Да уж посидел бы еще, – нехотя подавая руку, сказал мне старик. – Так вот что-то меня гнется и тянет за сердце, уж не пришел ли час моей смерти?
- Что вы, что вы, отец Стефан? Вы очень устали, вам отдых нужен, вот и все. А вы о смерти думаете, – успокаивая старика, говорил я.
Полагаю, я привел достаточное количество случаев из практики профессионального художника для того, чтобы до некоторой наглядности познакомить читателя с отношением публики к художнику, а также и с теми требованиями, какие были предъявляемы обществом к искусству как в г. Харькове, так и в соседних губерниях. Хотя Харьков и служил местом, из которого, как из источника, черпали художественные силы соседние губернии, но все эти требования сводились к тому, чтобы написать новые образа или же реставрировать старые. Что же касается заказов на картины, то художник не имел их. Художники всех специальностей, для того чтобы хоть как-нибудь существовать, должны приниматься за иконописное мастерство, отбросив как ненужный хлам все приобретенные в Академии приемы композиции письма, колорита, перспективы, пластической анатомии и даже экспрессии лиц, так как в иконописной живописи над всеми состояниями человеческого духа царит неизменно одно благоговейно-созерцательное, святое настроение. Костюмы, лица, цвет волос и платья, глаза и оклад бороды, атрибуты, окружающие святого, – все подчинено строгим условиям, из рамок которых нельзя выходить никому. Но, кроме этих тяжелых условий, художник должен был подчиняться мастерам серебряных риз, которые, выковывая одеяния для икон из благородного металла, оставляли для художника только незначительные отверстия для лица и рук, не обязывая его писать всю икону. Но было бы слишком поверхностно на основании вышеприведенных фактов сделать заключение, что люди того времени не любили искусства. Дело в том, что русскому искусству не повезло в его развитии. По введении христианства греки принесли в Россию искусство византийское, аскетического характера, строго условное и направленное только к служению религиозным целям. Русский народ воспринял всею душой христианскую религию, а с нею и искусство, занесенное ему греками. Кроме религиозных сюжетов, все другие задачи искусства были отодвинуты на задний план, как принадлежащие к разряду искусств, составляющих предмет роскоши.
С открытием императрицею Екатериною Второю Академии художеств, казалось, для русского искусства были сделаны ясли, в которых его вскормят, воспитают и возрастят. Но тут, к несчастию, всему благому помешало веяние идей того времени.
В Академии за учителей искусства были наняты антики древних греков и великие гении XVI столетия, времени Возрождения искусства в Италии. Учиться искусству в Академии того времени значило подражать во всем вышеупомянутым учителям. В талантах – и даже больших размеров талантах – не было недочета среди русских людей. И появился целый ряд картин на молитвы из греческой мифологии, совершенно чуждой русской душе и потому не нашедшей к себе ни сочувствия, ни любви среди общества. Академия художеств, а с нею и ее питомцы-художники стояли в стороне от народной жизни; а народ сам по себе стоял вдалеке от Академии и ее искусства. И только там, где искусство проявляло себя сюжетами из народной жизни, оно находило к себе сочувствие среди русских людей. Это весьма выразительно сказалось в симпатиях народа к художникам – Венецианову («Причащение старостихи Маланьи», «Вот, те и батькин обед») и Федотову («Приезд жениха», «Поздравление с Новым Годом», «К милашке в гости») и другим. В Харькове мы видели такие же симпатии к картинам из народного быта художников Д.И. Бесперчи, Гринфельда и других, писавших на жанровые темы.
В Харькове в те годы был иконописец, малороссиянин Хмара. Все свободное от занятий иконописью время он употреблял на то, чтобы с натуры изображать природу Малороссии и семейный быт ее обитателей:
И ставок,
И млынок,
И вишневый садок.
И его картины небольших размеров раскупались за недорогую цену охотно.
Среди харьковских художников находился в то время живописец вывесок и гербов, Иван Козьмич Хамло-Сокира. В юношеские годы Сокира пользовался расположением известного писателя Г.Ф. (Грицько-Основьяненко), который любил Хамло-Сокиру за его несомненный и выдающийся талант. Поддерживая его материальными пособиями, как человека совсем бедного, Квитка готовил его в Академию и давал ему средства на приобретение среднего образования. И, казалось, у Хамло-Сокира все шло хорошо. Он был не ленив и после трехлетних занятий с двумя студентами сделался неузнаваемым в манерах, в обращении и в своих суждениях. Но неожиданно его благодетель умер. Это так поразило Ивана Козьмича, что он на семнадцатом году, почти готовый к поступлению в Академию, начал пить, опустился и скоро умер.
Он с большой любовью иллюстрировал масляными красками повести и рассказы Григория Квитки. Я видел две его картины: «Козырьдивка» и «Солдатский портрет». По композиции и силе экспрессии они были полны задатков крупного таланта. Однажды, возвращаясь в морозный вечер с Журавлевки со своими художественными принадлежностями, Хмало-Сокира настолько увлекся закатом солнца, превратившего снежную долину в перламутровую сплошную пластину (что нередко бывает), что, недолго думая, нашел у какого-то бесконечного плетня безлюдный тихий уголок и уселся набрасывать с натуры эскиз. А чтобы мороз не мешал ему, он поставил возле себя бутылку «дешевки»[68].
Долго ли рисовал он – неизвестно. Его нашли замерзшим в сидячем положении. На коленях его стояла шкатулка с картоном и красками, а о-бок его – пустая бутылка из-под «дешевки».
Был еще в Харькове иконописец Павел Кудряшев, который долгое время жил мастером у иконописца Куликовского. Он имел страсть писать картины юмористического характера, преимущественно из еврейского быта. А если мы вспомним, что в шестидесятых и семидесятых годах, как Репин, Крамской, Семирадский и Крюков,– то упрекнуть Харьков и харьковцев в отсутствии художественных стремлений будет грешно.
Я упомянул выше, что у богатых помещиков того времени были картинные галереи. Но в большинстве случаев это были картины, купленные нередко за весьма дорогую цену за границей и на самом деле не имевшие никакой цены, за отсутствием художественных достоинств. Почти не было галереи, в которой бы не висели две-три картины Рафаэля или Мурильо. Оказывались, что эти два гения писали (вероятно, для русских бар) и стада коров, и кузни, и пейзажи. А уж мадонн их кисти не было числа…
Приобретали этих картин плохо понимали или совсем не понимали ничего в искусстве, и их иностранцы обманывали. Да оно и не удивительно. Нельзя же приобрести понятие о чем бы то ни было из воздуха, а тем более запастись понятием об искусстве. Откуда же было приобрести эти понятия хотя бы харьковцам, а помещикам тем паче? В гимназиях, в институтах, в кадетских корпусах и лицеях преподавалось искусство ad libitum[69], составляя собою приватный предмет. Выставки картин были только в Петербурге и то один раз в год – академическая выставка. Харьков не имел никакого представления о выставках, а когда мне, в шестидесятых годах, вздумалось в собственной квартире, для ознакомления публики с работою прозрачными красками на стекле, по методу Мюнхенской королевской школы, выставить на четырехаршинном зеркальном стекле икону: «Взятие на небо божией матери» (по Мурильо), то на наши многократные приглашения (бесплатно) пожаловать смотреть икону дружно отозвались только господа художники, проживавшие в г. Харькове, да преподаватели гимназии и профессора университета. И все это происходило не от равнодушия к искусству, а от совершенной новизны приглашения. Когда в первый год открытия своей деятельности Общество передвижников открыло выставку в Екатеринославе, то на нее явилось счетом семь человек, при чем один из этих семи подошел к распорядителю выставки с вопросом:
- А позвольте вас спросить, когда начнется представление?
- Какое представление?
- Да ведь должно же быть какое-либо представление?
- Никакого представления не будет, и напрасно вы будите ожидать его…
- Вот оно какое дело. Ну, извините за беспокойство.
Простоявши не более недели, выставка была закрыта вследствие отсутствия посетителей.
Вспомнив о харьковских художниках былого времени и об отношении харьковцев к искусству, не могу не рассказать о печальной судьбе первой натурщицы, попавшей в Харьков и здесь нашедшей трагическую кончину. Начну, однако, ab ovo[70].
При Академии художеств всегда есть пять-шесть так называемых присяжных натурщиц. Они не получают определенного жалования, но по требованию художника, работающего в академической (казенной) мастерской, позируют и получают от казны за каждый сеанс в три часа по пяти рублей. Эти же натурщицы бывают на сеансах и на частной квартире художника по добровольному соглашению о цене за сеанс.
В числе таких натурщиц была очень миленькая «субретка», из петербургских мещанок, лет восемнадцати, Елизавета, известная всем художникам под именем Лели. Счастливая наружность этой Лели давала ей хороший заработок, и она почти всегда была ангажирована на сеансы по академическим студиям к профессорам академии. И уж чего с этой Лели ни писали, кого она не изображала собою на академических сеансах!
Леля изображала и св. Прасковью и Марию Египетскую, с нее писали и архангелов. Семь раз с нее изобразили Цирцею; три раза формы ее тела запечатаны в мраморе, изображая Диану; два раза она была прелестной Психеей, а профессор Нееф с нее изобразил своих восхитительных нимф и наяд. Всегда веселая, живая, игривая и находчивая, Леля прекрасно понимала, какую экспрессию нужно придать телу при изображении того или другого лица. Художник писавший с нее или иссекавший ее из мрамора, лаконически отрывистою фразой заставлял ее дать поворот или движение такие, какие были необходимы в данном случае.
- Торс прямее. Сильнее перегиб талии. Больше движения в руках. Скромность в глазах. Сильнее выразить ямки на щеках. – Все эти технические выражения были для нее понятны, и потому Леля была одной из выдающихся натурщиц.
«Les peuples heureux n’ont pas d’histoire» – говорят французы[71]. Натурщица Леля не принадлежала к тому народу, который не имел своей истории. Ее судьба более чем плачевна, а потому я останавливаю мои воспоминания на этом эпизоде прошедшей жизни.
В Харьков приехал в середине пятидесятых годов сын очень богатого помещика Херсонской губернии, художник Академии Валерий Петрович Мечник. Попал он в Харьков проездом в имении своих родителей, находившееся в Херсонской губернии; остановившись на время в нашем городе, он нанял для себя квартиру в целый этаж и немедленно занялся живописью, держа себя особняком и почти ни с кем не знакомясь. Он еще в Петербурге задумал писать картину: «Эвридика прощается с Орфеем, увозимым Хароном».
Для выполнения такой картины требовалась нагая натура для фигуры Эвридики. А так как в то время о нагой натуре, даже мужского пола, среди нашего провинциального общества невозможно было и мечтать (у себя дома писать с нагой женской натуры было бы преступлением, а родители Мечникова по отношению к нравственности стояли высоко и от всяких соблазнов держали себя далеко), то молодой и нетерпеливый художник, не стеснявшийся в средствах, недолго думая, решил остановиться на полпути, в Харькове, и на свой счет выписать из Петербурга натурщицу Лелю. Обеспеченная с избытом на проезд из Петербурга и обратно, при прекрасных условиях гонорара за труд, Леля не замедлила приехать к молодому художнику и остановилась по его же предложению у него на квартире на все время необходимых для картины сеансов.
Все это было настолько ново, настолько необычно, что спустя несколько дней после приезда Лели и Мечников, скрывавший себя от любопытных взоров обывателей, и Леля, приехавшая к нему как натурщица, сделались притчею во языцех и произвели небывалую сенсацию, поднявши на ноги даже полицейское начальство, которое в лице уже знакомого нам квартального Дудышкина являлось к Мечникову за справками: какую картину он желает писать и что за люди – натурщицы, которые позволяют раздевать себя до-нага. Но встретившись с сыном богатого и заслуженного дворянина и заглянув в его кошелек, Дудышкин, как развитой человек, понял в чем дело и удалился навсегда из квартиры художника, порицая невежество толпы…
А в городе ходила из семьи в семью новость о том, как прибыл в Харьков художник-безобразник и пишет картину ужасного содержания, и как он для этого выписал из Петербурга какую-то натурщицу.
- Да, да, – говорила почтенная дама почтенному господину: – уж эти художники. Вот мне ненавистны за это доктора и художники.
- Что вы, сударыня, – спешил возразить ей почтенный господин. – Доктора – еще бы туда и сюда. А вот художники… – и господин в молчании разводил руками: – художники – не доктора. Доктора дело имеют с трупами, хотя и нагими, а все же с трупами. А художники… – и господин шепнул что-то на ухо почтенной даме.
- Да как же это так? – чуть не с ужасом спросила почтенная дама.
- Да так, как мать родила, – вполголоса и пригнувшись к даме, сказал господин.
- Ах ты, господи помилуй! Чего же это полиция смотрит? Ведь это – соблазн! – отвечала дама, качая головой от удивления.
- Между тем шло время; безобразник Мечников, запершись в своей квартире, писал свою картину на погибель всего человечества, а натурщица Леля – это исчадие ада – позировала ему в известные часы дня, стоя на нарочно сделанном для нее постаменте. И все это н прошло без внимания среди публики, и ибо всем шел толк на разные лады. Девицы не имели права произнести ее имени и должны были строго играть роль «незнаек». Что же касается дам, то многие соглашались с мнением, что натурщица Леля не христианского вероисповедания, а, вероятно, турчанка, убежавшая из гарема.
- Все, все говорят: натурщицы в Петербурге – турчанки из гарема, – говорила Ульяна Матвеевна Прасковье Федоровне. – Потому, согласитесь сами, христианская девушка разве согласится на такое дело?
- Да и зачем эта натура? – рассуждала Прасковья Федоровна. – Ну нарисовал бы так, как сумел, а то – смотрите-ка!
- Ах, уж не говорите. В Петербурге, в Академии, говорят, рисуют… – И Ульяна Матвеевна на ухо Прасковье Федоровне что-то сообщила.
- Скажите пожалуйста…– пораженная известием, ответила Прасковья Федоровна. – Уж хотя бы посмотреть, какая она нам на лицо, эта турчанка-то.
- Видали, голубушка, видали: говорят, настоящая турчанка – и нос, и глаза, все, все как у турчанки. И сидит, говорят, поджавши ноги, как турчанка.
Но как бы ни было, а время сжалилось над обывателями города, и Мечников, окончив фигуру Эвридики, свернул в трубку холст и уехал из Харькова, щедро одаривши Лелю за ее труды.
Леле, не долго думая, собраться бы и уехать подобру да поздорову из Харькова в Питер, но ее нелегкая дернула остаться в Харькове, в расчете на заработанные деньги открыть маленькую швейную мастерскую, составить себе партию и, выйдя замуж, зажить мирною жизнью хозяйки, жены и матери. Благие намерения, и нужно сказать, что на первых порах у нее было не мало заказов. Ей отдавали шитье многие только для того, чтобы посмотреть на турчанку из гарема.
- Скажите, модистка, вы родом турчанка? – неожиданно спрашивала у нее заказчица.
- Нет, сударыня, я – русская. Зовут меня Елизавета, а фамилия моя – Петрушкина.
- А веры вы магометанской?
- Нет, я – христианка…
- А давно вы крестились? – и проч.
И заказчица спешила передать ею виденное и слышанное своим знакомым при закрытых дверях, с разным комментариями.
Я сказал выше, что Леля была очень хорошенькая и грациозная девушка, и это влекло ее в большую беду.
Когда-то Лафонтен сказал устами своего сверчка: «Pour etre heureux, il faut etre cache»[72].
Но такой совет, полагаю, может быть годным для сверчка; что же касается девушки, то я готов утверждать, что дабы быть счастливой, надо быть уродливой.
Не мало у Лели было заказов, но в то же время не мало было у нее поклонников. Стремясь выйти замуж и доверчиво относясь к ухаживавшим за ней, она доверялась многим и приобрела таким путем поклонников, которые не терпли никакой конкуренции. Особенно настойчиво за нею ухаживал какой-то богатый ремонтер, мешая своим присутствием и щедрыми приношениями тем, которые имели намерение жениться, но не получали на то от нее ответа. Как петербургская ловкая субретка, она настоящих двух-трех женихов держала в резерве, а с ремонтера, как с барана Рамбулье[73], снимала шерсть.
Надоело, наконец женихам видеть со стороны Лели такое вероломство.
В туманное зимнее утро, несчастное для Лели, ее нашли в Университетском саду повешенною на суку черноклена. Она была раздета до-нага, и у ног ее лежало ее платье.
Кто совершил преступление и каким путем она могла попасть в зимнюю пору в сад – и по сей день для всех осталось тайной. И, вероятно, нарочно, с издевательством, жестоко сердечный Отелло-душегуб раздел ее до-нага, не желая воспользоваться ни ее костюмом, ни ее ценными вещами, которые были при ней.
Я уже говорил о том, что государь Николай Павлович ежегодно посещал г. Харьков, проезжая в г. Чугуев для смотра войск и для производства маневров. Ему нравился г. Харьков; он всегда останавливался в нем на несколько дней и посещал милостиво учебные заведения, а также бывал на балах дворянского собрания, даваемых специально в честь его величества. Не менее охотно он посещал балы в Харьковском институте благородных девиц. И что это были за балы? Зал всегда декорирован был с изящным вкусом и с полной роскошью. Из дальних уездов губернии, а также из отдаленных от города имений съезжались в г. Харьков помещики, среди которых не мало было стариков камергеров, гофмейстеров и флигель-адъютантов его величества. Среди танцующей и приглашенной на бал молодежи пестрели в роскошных костюмах парадной формы гвардейцев, из числа которых особенно выделялись ординарцы, адъютанты и офицеры конвоя его величества. Бал украшали красавицы девицы и молодые дамы, костюмы которых были роскошно убраны бриллиантами и драгоценными камнями.
Государь всегда приезжал к открытию бала в десять часов вечера. Его величество сопровождали все власти и начальствующие города. Кроме начальницы института, совместно с классными дамами, встречали государя воспитанницы института всех классов. Одетые по-бальному, хотя с простотой, приличною воспитанницам учебного заведения, многие девицы высшего класса и выпуска имели костюмы из дорогих тканей. В то время такое явление было почти заурядное уже и потому, что среди дворян губернии не мало было таких, которых дочери, состоя воспитанницами института, получали от родителей по сто и более рублей в месяц на конфеты и прочие лакомства. Это, конечно, вело к тому, что институтки нередко на свой счет заказывали эконому института приготовить им к обеду какое-нибудь любимое блюдо, купить лакомство, принести фруктов и т.д., что исполнялось с полною аккуратностью. Но более всего эти средства приберегались институтками для счастливых дней приезда императора. Для своего бала, на котором обещал быть государь, институтки на свой счет украшали зал, лестницу и даже двор института различными декоративными деталями. Желая своего драгоценного гостя принять с наивозможным великолепием, институтки просили свое начальство о том, чтобы на их счет, кроме общепринятых плошек и вензелей, все здание института было украшено роскошною иллюминациею. И в ночь бала все здание института, точно усеянное миллионами рубинов, изумрудов и бриллиантов, горело, переливаясь всевозможными цветами. Окна зала, в котором происходил бал, были отворены; лучший оркестр музыки Фодлера или Хорвата увлекал танцующих в вихре волшебных звуков вальса. Все от души веселились, радовались и были вполне счастливы, видя вблизи себя царя, обожаемого всей Россией. Перед зданием института стояла толпа народа, заглушая поэтически звуки оркестра восторженными кликами «ура». Если ночь удавалась теплая, то допоздна народ толпами ходил по Сумской улице, и среди этой толпы в роскошных экипажах ехали семьи богатых купцов, чтобы хотя издали посмотреть на пышный бал.
Одним из таких пышных балов в институте был бал, данный в честь государя Николая Павловича в 1842 г. Николай Павлович, возвращаясь с маневров в Петербург, посетил этот бал. Бал был блестящ по обстановке и вследствие расположения духа государя – оживлен и весел. Не только цветущая молодежь, но даже и почтенная старость в лице помещиков в чине генерал-лейтенантов и звании гофмейстеров и камергеров участвовал в первой фигуре мазурки, так как государь сам во главе всех и в первой паре прошел один тур мазурки с окончившей курс два года назад девицей Оконечниковой, дочерью купца первой гильдии, поставщика на всю армию юга России фуража для солдат конницы и пехоты.
На этом же бале было семейство помещика, генерал-лейтенанта Щетинина. Молодой Щетинин – кавалергард, любимый ординарец государыни, в чине подпоручика, одетый в бальную форму своего полка, был одним из первых красавцев на балу.
Сестра молодого офицера Григория Львовича Щетинина, Елена Львовна, воспитывалась в институте вместе с Ольгой Федоровной Оконечниковой, известной в то время красавицей – темной шатенкой с голубыми глазами, грациозной и стройной как пальма. Григорий Львович, посещая сестру свою, давно уже был знаком с Ольгой Федоровной и с согласия родителей своих рассчитывал на ней жениться. Но генерал Щетинин не мог допустить, чтобы сын его просил у купца Оконечникова руки его дочери, не узнав прежде основательно, что Оконечников не откажет ему в руке своей дочери и даже за честь великую сочтет принять такое лестное предложение от сына богатого и знатного генерала. А между тем, стороною было слышно, что Оконечников, хотя и не пренебрегал войти в родство с генералом, намеревался еще несколько лет дать дочери свободу и потом уже подумать о ее замужестве, которое, при ее красоте и средствах, от нее не уйдет. Поэтому вопрос о сватовстве Щетинина стоял открытым.
На только что описанном балу этот вопрос совершенно неожиданно для всех был решен государем к счастью для молодых влюбленных.
Государь в первой фигуре мазурки прошел полонез с Ольгой Федоровной Оконечниковой, которая своей красотой и острым умом произвела на него весьма приятное впечатление.
Подойдя к Оконечникову, государь похвалил его дочь.
- Ну, Оконечников, тебя бог наградил дочерью, которой нужно жениха, достойного ее по красоте и уму, – сказал государь
- Да уж, батюшка-государь, кого господь пошлет ей в женихи, тот и мужем ее будет, – ответил Оконечников, низко кланяясь государю на его приветливое слово.
- А вот возьми меня в сваты, я ей выберу жениха, который и дочь твою осчастливит, и меня, как свата, не сконфузит. Хочешь, старина? – ласково спросил государь.
- Ваше величество, государь наш батюшка, – с радостною покорностью ответил Оконечников. – И я, и дочь моя – в божьих руках, в твоей воле, государь. Не взыщи за нескладность моей речи. А уж вот как: от души говорю.
Государь подозвал к себе молодого Щетинина.
- Я тебе, Щетинин, невесту нашел, – сказал государь. – Хочешь, посватаю?
- Я счел бы за великое счастье иметь невесту по выбору вашего величества.
- Ну, вот тебе и жених твоей дочери, – сказал государь, обратясь к Оконечникову. – Желаешь?
Оконечников сделал глубокий поклон и прослезился.
Ольга Федоровна Оконечникова была засватана за Григория Львовича Щетинина, и тут же на балу влюбленные были объявлены женихом и невестой.
- Ну, Оконечников, – сказал государь. – Ты всегда хороший фураж поставляешь для моей армии. А теперь взялся поставлять для моих офицеров и красавиц-невест. За это поздравляю тебя коммерции советником.
Таким образом бал ознаменовался радостными событиями, в которых живейшее участие принимал государь император Николай Павлович.
Когда по окончании всех свадебных пиров и церемоний молодые Щетинины приехали в Петербург и были представлены государю и государыне, то Ольга Федоровна, по желанию императрицы была назначена камер-фрейлиной.
Государь не дождался конца бала и начал прощаться с воспитанницами, которые, окружив его со всех сторон, усердно просили, чтобы он оставил им что-либо на память. Николай Павлович отдал им на всех два своих носовых платка. Девицы подхватили этот драгоценный подарок, от которого через несколько минут остались мелкие клочки.
Когда государь сел в свою коляску, оглушительные крики «ура» несметной толпы народа нарушили покой ночи. Но когда государь доехал до театра, то народ, ухватившись за колеса быстро катившегося экипажа, остановил его, выпряг лошадей и на своих раменах повез государя.
В это время двоих простолюдинов сильно помяли.
Государь приказал положить их в лазарет и вылечить на казенный счет, а при выпуске из лазарета одарить их от имени императора десятью рублями каждого.
Я уже сказал, что Николай Павлович любил г. Харьков, и потому, видя его не раз утопающим в невылазной грязи и желая хотя несколько облагообразить его, назначил генерал-губернатором города С.А. Кокошкина, сказав ему: «вытащи мне Харьков из грязи». С неимоверною энергией и неустанной бдительностью Кокошкин принялся за это трудное дело. Но слова государя – «вытащить г. Харьков из грязи» – он понял широко и разносторонне, почему его первая и настойчивая деятельность начала чувствоваться жителями города во всех деталях городской жизни. Прежде всего он обратил внимание на полицию и на думу. Городской голова, полицмейстер и квартальные суетились, подпрыгивая и подскакивая, точно куклы на щетине, во время игры на фортепиано. Среди этих лиц, зависящих от генерал-губернатора по службе, Кокошкин был этот Эзопов Журавль, которому Юпитер приказал Тевтейское болото очистить от жаб и лягушек. Журавль, без сожаления и не задумываясь, начал хватать лягушек и проглатывать их целиком. Лишь настанет, бывало, божье утро, как уже и есть новость, гласящая, что такой-то квартальный в отставке, а писец при думе уволен, а секретарю выговор дан, а градскому голове губернатор лично сам сделал внушение и пригрозил арестом на гауптвахте.
- Слыхали? – говорили граждане друг другу при встрече: – уже квартального четвертого квартала нет. Проглотил.
- Вот диво! – отвечал собеседник. Да вы знаете? Он всею этой мелкотою закусывает, а градскою думою обедает.
Но как бы то ни было, а болото родного нашего города всколыхнулось и начало плескаться о берега свои, заражая воздух зловонием.
С увольнением то того, то другого чиновника в отставку начали вскрываться такие делишки, которые объясняли давно томившие многих и неразгаданные вопросы: откуда, например, взялся дом у секретаря такого-то; или на какие средства приобрел хутор секретарь сиротского суда; или почему это так малодоходна Благовещенская церковь, в которой старостой купец Л-н, он же и заседатель от купечества в сиротском суде? И оказывалось, что секретарь сиротского суда прикарманивал себе не мало сиротских сумм; а опекун сирот Хвощевых, купец Култынников, через посредство секретаря Басова, испросил разрешение сената и продал за ветхостью черноземную землю с усадьбою и с домашним скотом. Выручил он за этот «ветхий» чернозем со всем остальным скарбом шестьдесят три тысячи, оставил десять тысяч триста рублей сиротам, а на остальную сумму Басов купил себе хутор на Немышле, а Култынников устроил себе на своем хуторе лошадиный завод. И все это было так хорошо и добросовестно сделано, что все остались довольны. Сироты Хвощевы в радостях хвалились, что у них десять тысяч денег есть; даже купивший землю «ветхую» с черноземом через четыре месяца продал ее за девяносто тысяч рублей.
И со всеми гражданами города Кокошкин обращался одинаково, не различая купца первой гильдии от купца 3-й гильдии или мещанина.
Однажды, призвав к себе купца Л-на, Кокошкин спросил его:
- Скажи мне, Л-н, тебе нравится жить в Харькове?
- Да почему бы не нравилось мне жить в Харькове, ваше-ство? – недоумевая, ответил купец.
- Город Харьков – хороший город? – продолжал подшучивать Кокошкин. – В нем жить и тепло, и весело?..
- Да почему же бы и не так, ваше-ство? – все еще недоумевая, отвечал купец.
- Ну, так вот что, – серьезным тоном ответил Кокошкин. – Чтобы ты мне непременно в это же лето церковь выбелил и ремонтировал как снаружи так и внутри. Чтобы эта церковь была доходная – непременно. И в-третьих, чтобы за этот год все церковные доходы показал мне непременно. В противном случае, я не посмотрю, что ты первой гильдии купец, и сошлю тебя в Иркутск. Слышишь?
- Да помилуйте, ваше-ство! За что же? Я же… – начал было оправдываться Л-н.
- Ну, довольно, Ступай домой и не забывай того, что я тебе сказал, – ответил Кокошкин и ушел из приемного зала.
И с того часа не один день шли толки по городу о нелюбезном приеме Кокошкиным именитого и почтенного купца Л-н.
Церковь через три дня после этой аудиенции у Кокошкина белилась, штукатурилась и вообще ремонтировалась заново. И доходы церкви с каждым днем все росли и росли…
Не менее ревностно Кокошкин следил за выпрямлением улиц города. Кривых улиц он не выносил.
Едва он замечал, что какая-либо улица шла известное расстояние прямо, а потом неожиданно поворачивала вправо или влево, он немедленно принимался за выпрямление. И в этом деле для него препятствий не существовало. Особенно же ревниво наблюдал он за главными улицами города. Но более всех улиц привлекала его внимание Сумская улица, так как по Сумскому шоссе всегда въезжал и выезжал из города государь император и на Сумской же улице находился институт благородных девиц, который так любил посещать государь император. Сумская улица того времени представляла собою странную смесь города с деревней, крайней бедности с богатством, круглого невежества с высокою культурою европейских институтов. Громадное каменное здание института благородных девиц стояло на ряду с убогой лачугой в три окошечка, срубленной в стояны и заклинцованной в смазку глиною и конским навозом. Это глиняно-хворостяное здание, крытое соломой, принадлежало бублейнице Марьяне Ковалихе; в хижине вместо ворот на ночь, закладывались какие-то доски, а вместо забора или плетня совсем ничего не было. А все же у наивных людей крепко держалось мнение, что вне ворот ходить нельзя.
- Напрасно хлопочете, Марьяна Федосеевна, – бывало, кто-либо скажет ей, видя, как она брешь, образовавшуюся на месте, где должны быть ворота, тщательно закладывает полусгнившими и поколотыми досками: – ведь подумайте: ворота заложили досками, а плетня и забора совсм нет?
- И вот, чудные люди, – ответит с неудовольствием Марьяна Федосеевна: – кто же пойдет во двор по месту, где должен плетень или забор стоять? На это уж надо быть турком-нехристем…
За этой лачугой стоял дом в два этажа купца Кожевникова. Затем еще два-три дома и опять лачуга с нескончаемым покосившимся забором и опять в два этажа дом Гринченкова, купца и подрядчика, ныне купца Гладкова. А от института вверх шел обширный Университетский сад, который от институтской стены делал уклон влево и доходил до начала двухэтажного дома ветеринарного училища, а ныне квартиры директора ветеринарного института. Сад этот, уклоняясь, едва имел ограду и на всем протяжении, где в настоящее время находится дома Сухомлинова, Толочинова и далее вправо, влево и вглубь шла земля, принадлежащая купцу Котлярову, который когда-то был богат, а впоследствии настолько обеднел, что, кроме этой земли, у него ничего не осталось. Эту землю в те годы никто ни за какую цену не желал приобретать. А впоследствии уже наследник Котлярова продавал ее по тринадцати копеек за квадратную сажень. Нисколько не задумываясь, Кокошкин от стены института протянул прямую линию и, отрезав таким способом значительный кусок земли Котлярова в пользу Университетского сада, начал строить каменную решетку с двумя воротами, а вслед за сим каменный забор с воротами, которые в настоящее время принадлежат ветеринарному институту. Таким образом левая сторона Сумской улицы получила красивую прямую линию до места, где в настоящее время стоит киоск конно-железной дороги. Что касается купца Котлярова, то, за смертью его, малолетний наследник не сделал против такого захвата никакого возражения и уже в весьма серьезных летах, когда Кокошкина не стало, при императоре Александре II, он возвратил права на свою землю и получил как от университета, таки от ветеринарного института следуемые ему за землю деньги.
Что касается правой стороны Сумской улицы, то от конца ограды храма во имя жен-мироносиц и до места, где останавливается трамвай, не было ни одного дома и улицы: Сорокинская, Мироносицая, Чернышевская и т.д. почти до Немецкой улицы – все пространство представляло собою жалкий пустырь, заросший бурьяном и служивший местом отдохновения бродячих собак.
Не менее ревностно Кокошкин заботился о предупредительных мерах против пожаров, которые, к сожалению, в то время были очень часты.
Пожарная команда города весьма немного была лучше той, которую в настоящее время можно видеть в деревне. Возле сельской расправы. Когда из труб начинали качать воду, то пожарная кишка прорывалась сначала от напора воды и, наконец, лопалась, лишая всякой возможности посредством ее гнать оду вверх нагнетательным насосом. Лестницы при пожарной команде тоже были плохи и скорее представляли дрова, окрашенные масляной краской, чем пожарный обоз, в серьезном смысле этого слова. Кроме того, эта смешанность построек, наполнявшая собою все главные улицы города, уде не говоря об улицах второстепенных и об окраинах города, – постоянно служила к усилению пожаров. Солома в большинстве случаев, гонт[74] и безыменка[75], составлявшие крыши домов небогатых и бедных обывателей, наконец, плетни и заборы, деревянные лестницы и т.д., представляли собою хорошую пищу для огня. Кокошкин приказал ставить на крышах, крытых соломой, гонтом и безыменкой, кадки с водой и помещать больших размеров мочальные швабры.
Этими приспособлениями во время пожара должны были пользоваться как надежным средством от огня. Немедленно было циркулярно разослано обывателям города приказание поставить у дымовых труб кадки с швабрами. Срок на это давался от трех до четырех дней. К тем, кто противился такому распоряжению или медлил исполнением его на крышу немедленно являлись от казны плотники с готовым материалом и начинали свою работу. Несмотря на то, что Харьков в то время не мог быть назван городом, любящим искусство, но нем не менее, на это изобретение Кокошкина появились разновременно три карикатуры. На первой карикатуре Кокошкин стоял на одной из таких крыш, которая горела. Но изобретатель оставался невредим, курил покойно сигару, а шваброй отгонял от себя мух. Другая карикатура изображала всю семью Кокошкина, расположившуюся на крыше. А на третьей карикатуре Кокошкин приспособил кадку на крыше в обсервации небесного свода. Он сидел с громадными телескопами и смотрел на звезды. Надпись гласила: «Какую бы мне просить звезду за такое изобретение?» В то же время губернский инженер Петровский, изображенный в виде черта, выглядывал из трубы, адресуясь с такою речью к Кокошкину: «Что же ты только себе звезду избираешь? Ты и на мою долю не забудь выбрать…»
Все эти карикатуры, появившиеся разновременно, ходили по рукам среди богатого люда. Но об них говорили шепотом; а показывали их друг другу при закрытых дверях, так как очень боялись, чтобы Кокошкин не узнал, что у них есть карикатуры. Но несмотря на предпринимаемые предосторожности, все же не обошлось без курьеза.
Был в Харькове богатый купец В.И. Болотов.[76] В его роскошном магазине можно было найти предметы роскоши: люстры, лампы, столики, порт-табаки, чернильницы, бювары и проч.
Болотов был старый холостяк, а потому не лишен был характерной странности холостяков – имел порнографические картинки заграничной фабрикации. Конечно, были у него и карикатуры на Кокошкина. Держал и показывал он их бережно. Но «на всякого мудреца довольно простоты». Болотов был добрый человек, но большой руки чудак, а по торговле – плут. Отличался он юркостью характера и большою рассеянностью. О том, что у него есть карикатуры, генерал-губернатор знал, но через своих полицейских агентов он не имел возможности изловить Болотова, так как на полицейских с его стороны влияло только одно приказание; а со стороны Болотова влияло на них приказание и деньги.
Однажды к Болотову в магазин приехал Кокошкин за покупками, а может быть и за разведками. Долго и внимательно рассматривал он в его магазине различные вещи, брал их в руки, поднимал с постамента, передвигал на столах и присматривался к вещам, то наклоняясь поближе, то поднимая свою голову кверху. У одного угла стояли две роскошные тумбы, на которых стояли не менее роскошные канделябры из венской золоченной бронзы. С намерением или случайно, Кокошкин, подойдя к этим канделябрам, ничего не говоря, взял один из них и приподнял с тумбы. Под ним оказались какие-то листы бумаги. С быстротою вьюна Болотов подскочил к тумбе и снял с нее листы.
- Покажи мне сейчас же эти листы! Грозно и внушительно сказал Кокошкин.
- Болотов от сраха не только оробел, но и онемел. Он, молча, дрожащею рукою протянул листы Кокошкину.
Кокошкин развернул три листа бумаги и увидал собственное изображение в трех видах, на крыше.
- А…а! .. Так вот какую ты ведешь торговлю! – сказал Кокошкин.
- Ва…ва…бы…бы… – что-то силился сказать полуонемевший от страха Болотов, упав перед ним на колени.
- Прислать ко мне на дом эти два канделябра с тумбами! А с тобою я разделаюсь, – сказал повелительно и грозно Кокошкин и вышел из магазина.
Бедный Василий Иванович так и остался на коленях, потеряв силы подняться на ноги.
Нет сомнения, что канделябры с тумбами были немедленно отправлены в дом генерал-губернатора, а сам Болотов отправился к Родзянке, занимавшему видный пост при канцелярии генерал-губернатора. Родзянко, дворянин по роду, университетского образования и, как малороссиянин, был большой юморист, острый как бритва и меткий – как стрела богатыря.
Рассказал Василий Иванович Родзянке свое горе и просит сказать ему, чего ожидать и что делать.
- Та шо тут дожидать, друже, колы погано? – ответил Родзянко на малорусском наречии. Гляды, шоб не пришлось тоби в полиции полежать пузом на лавци?
- Для его? – не поняв остроты, спросил простодушно Болотов.
- Для чего? Да ты будешь отдыхать, а солдаты на тебе будут махать, чтобы мухи не сидалы?..
- Ах, боже мой! Что вы говорите! – пораженный таким известием, возразил Болотов. – Да я же первогильдейный?
- Хе, хе – смеясь, ответил Родзянко. – Хиба ты не знаешь наших законов? Статья напысана велыкими буквами – нельзя пороть. А пид нею маленькие буквы. Ото вже значить – выпороть…
- Что же мне делать?
- Пока ничего не знаю. Приходь дня через два. А пока мошну готовь. Без нею не обийдышься…
На третий день утром частный пристав Судейкин,[77] по распоряжению генерал-губернатора, явился к Болотову, чтобы препроводить его к Кокошкину.
Василий Иванович хотел прежде повидаться с Родзянко, но ему этого не позволили, и он на парном извозчике отправился с Судейкиным к генерал-губернатору.
Долгонько пришлось потомиться в приемной, совместно с другими, пока Кокошкин соблаговолил выйти из своих комнат в приемный зал.
Наконец вышел Кокошкин и, минуя всех, подошел к Болотову.
- Ну что, купец, – как будто вышучивая его, сказал генерал. – Мне с тобой надо за твой товар рассчитаться. Говори мне сейчас, где ты взял картинки?
- Да я, ваше-ство, – начал было свою речь испуганный Болотов.
- Не сметь мне отнекиваться. Говори сейчас, я тебе приказываю.
Болотов молчал.
- Ты знаешь г. Нерчинск? Я тебя, каналью, туда сошлю с твоим товаром. Понимаешь ты это?
- Ваше-ство, помилуйте, простите! – рыдая, просил Болотов разгневанного генерала.
- Вот тебе мое милосердие, – сказал Кокошкин: – ты одинокий человек, а денег у тебя много. Теперь идет постройка здания благотворительного общества. Выбирай любое: или ты будешь сослан в Нерчинск, или пожертвуешь на благотворительное общество пять тысяч рублей, и я прощу тебе твою вину.
Болотов предпочел внести пять тысяч рублей, и генерал отпустил его с миром.
Но, потеряв разу такой куш денег, он приупал и должен был войти в сделку с кредиторами, чтобы хоть как-нибудь удержать торговлю и не разориться в прах.
Между тем, кто же нарисовал эти три картинки? Вопрос оставался открытым и мозолил душу генерала. Среди студентов университета был некий студент Сципура, который владел карандашом и не раз помогал профессорам, рисуя с трупов части человеческого тела. Его-то и заподозрил в этом грехе генерал-губернатор и попечитель харьковского учебного округа С.А. Кокошкин. Но бывший в то время знаменитый хирург профессор Ванцети защитил его, так как знал его за одного из лучших студентов.
Кокошкин в конце концов успокоился и оставил розыски виновника появления трех карикатур на него.
Как ни радел ревностью Сергей Александрович за постановкой на крышах бочек, а все же эти бочки не принесли никакой существенной пользы городу, не уменьшили числа пожаров, и многоведерные кадки с роскошными швабрами из чесаной мочалы пожирались дерзким и нахальным огнем, не уважающим негенеральского изобретения. Сергей Александрович, не на шутку объявивший войну огню, призвал на борьбу с ним резервы в лице пожарных и полицейских солдат, а иногда и солдат из стоявшего при городе гарнизона.
Каждое утро Кокошкин ездил по разным улицам города, имея при себе верхового полицейского солдата, у которого в сумке через плечо было несколько кусков мела. Едва генерал доезжал до хаты или до домика, порытого соломой, гонтом или дранью, как правая рука его с указательным пальцем поднималась и указывала полицейскому на дом или хату. Верховой солдат немедленно подъезжал к дому или хате, мелом писал на ней крест и спешил догнать своего повелителя. Дом такой или хата обрекались бесповоротно к соломке. Таковой же участи подвергались старые заборы и плетни. После каждой поездки на другой день рассылалась всем хозяевам обреченных к сломке домов или хат бумага, с требованием расписаться на ней: «читал такой-то», гласившая, что дом и забор должны быть сломаны в течение одного месяца, ли же забор должен быть поставлен новый, а дом или хата должны быть покрыты железом.
Проходил месяц, а дома и хаты, обреченные к сломке, стояли крытыми соломой и гонтом.
Тогда отряд из солдат пожарного депо или полицейских городовых, с топорами и ломами, без шума и «гика», а как цивилизованные представители порядка и благочиния, являлись к обреченным на слом домам и, не входя в рассуждения с хозяевами, начинали разрушать крыши и разбрасывать гонт и солому; а на других улицах от лезвия топора и грубого напора ломов валились плетни и заборы, обнажая дворы и большие пустоши несчастных бедняков, и без таких мер проводивших жизнь полуобнаженными. И были дни, в которые вставало солнце красное не на радость многим и вызывало из уст разоренных молитву: «наказуй нас, боже, огнем ненасытным; но храни нас, святый, от бича неумолимого». И нередко многим хозяевам приходилось проживать в раскрытых, без крыш, хатах и домиках по несколько месяцев, проводя осеннюю распутицу в жилье, с потолка которого то капало несчетными каплями, то текло студеными и грязными ручьями, орошая одежду, белье и весь скарб жильцов. А огонь в свое время не переставал делать свое дело. Дома и хаты с железными крышами нередко горели также исправно, как горят их собраты крышами, крытыми гонтом и соломою.
Каждое утро, в известные часы, хозяева домов и хат, на которых не успел указать фатальный палец властелина, выбегали на улицу, озираясь то в ту, то в другую сторону, с выражением испуга на лице, с тревожно блуждающим взглядом, и высматривали, не едет ли генерал, чтобы снять с их жалких хатенок их соломенную голову за то, что она не железная.
Какая нередко тяжелая и безвыходная страда выпадает на долю русской женщины.
Среди бедного населения г. Харькова, жившего кой-каким ручным трудом, под соломенной крышей, на Екатеринославской улице, в небольшой хатенке в два окна, с двором, обнесенным старым, покосившимся плетнем, жила мещанка Олимпиада Марковна Дьяконова, мать троих малолетних детей и жена столяра, отъявленного лентяя, лежебока и пьяницы.
Она была известна среди небогатого люда как повариха; она же ставила пьявки, ухаживала за больными, убирала покойников, готовила поминальные и именинные обеды, была свахой и даже жила по несколько дней в домах, заменяя собою экономку и хранительницу чужого добра. Честная и всегда верная своему слову, она пользовалась расположением и вниманием к себе даже в домах богатых купцов и дворян. Но вследствие тяжелой зависимости от мужа, всегда отбиравшего и даже кравшего у нее деньги, она была крайне раздражительна и, защищая себя и детей своих, доходила иногда до отчаянных приемов в борьбе с насилием мужа.
Весьма понятно, что ее домишко, крытый полусгнившей соломой и огороженный старым плетнем, более чем другие дома и хаты давно уже требовал ремонта и безобразил собою Екатеринославскую улицу.
На доме ее давно уже был начертан мелом больших размеров крест. Но Олимпиада Марковна сама лично и через посредство других просила уже два раза Кокошкина отсрочить лом крыши ее дома и дать ей льготу. Ее просьбы были уважены и, наконец, летом ей дана была третья льгота впредь до следующей весны, почему на углу дома была прибита доска с надписью: «до весны такого-то года». Но и весна пришла, и даже уже миновала, а Олимпиада не бралась за ремонт своего домика.
В начале сентября месяца Кокошкин, по обычаю своему, ехал с верховым городовым мимо Олимпиады Марковны.
- Прочитай, когда назначен срок сломки! – крикнул генерал своему верховому.
- Срок был – весна этого года, – отвечал городовой.
- Завтра с утра послать пожарных солдат сломать крышу и плетень, и чтобы к семи часам утра все было убрано и свезено в сторону.
- Слушаюсь! – ответил городовой и поспешил на своем коне за быстро удалявшимся в коляске генералом.
На другой день, в четыре часа утра, десять человек солдат пожарного депо, с топорами, с вилами и с веревками, подошли к домику Олимпиады Марковны и, не говоря хозяевам ни слова, быстро влезли на крышу и начинали сбрасывать солому и подрубливать стропила и латы. А две из них, стоя внизу, занялись размоткой веревки, которою нужно было валить стропила крыши. На поднявшийся стук и говор солдат вышла Олимпиада Марковна из своей деревянной норы и начала протестовать против сломки круши на ее доме. Начались со стороны солдат насмешки, а потом весь разговор перешел в ругань. А между тем солдаты делали свое дело, и солома со стропил крыши целыми снопами летела вниз, осыпая хозяйку дома сором и пылью.
Двое солдат, размотав веревку, собирались бросить ее на крышу, дабы обвязать стропила и валить их на землю.
У Олимпиады Марковны дрогнуло сердце, и она бросилась отнимать у солдат веревку.
- Оставьте, не ломайте! – вопила Олимпиада. – Где же нам жить, когда вы сломаете последнее наше убежище?
- Вишь какая явилась – смеялись солдаты. – Еще для нее жилье нужно…
- Да я не о себе хлопочу. Меня не возьмет черт, я и под плетнем переночую. Я о детях забочусь, я об них, голубках моих родных, плачусь. Идет осень, вот дожди пойдут, а они, бедненькие, в некрытой хате жить будут. Пожалейте их, родимые, порадейте об их участи.
И Олимпиада, рыдая, умоляла солдат не продолжать начатое.
Но два дюжих парня оттолкнули несчастную мат и с обычным равнодушием продолжали исполнять начатое разорение несчастной семьи.
На эту неурядицу вышел муж Олимпиады Марковны и, видя, что она спорит с солдатами, крикнул им:
- Да бейте ее, эту чертову бабу. Вишь увязалась. От нее и солдатам нет свободы. Вот настырная сатана! – причитывал Антон Дьяконов, усевшись на завалинке, точно в праздничный день.
- Ах ты, изверг, изверг! – вскрикнула Олимпиада.
Мгновенно подхватив лежащий у ее ног пожарный топор, обезумевшая женщина бросилась на своего мужа и рассекла ему голову.
Безжизненным трупом Антон свалился с завалинки хатенки, но вместе с ним без чувств, в обмороке, свалилась и несчастная Олимпиада…
К семи часам утра все было убрано, а также Олимпиада и труп ее мужа. И на месте, где час тому назад произошла кровавая драма, безмолвно стояла раскрытая хатенка, в ней пищало трое малолетних детей.
Генерал-губернатор отличался особенной любовью к прямой линии.
Против кафедрального собора и в те годы, как и теперь, стояло больших размеров казенное здание присутственных мест. Здание было весьма прочное и обещало еще долгую жизнь. Но фронтовой фасад его представлял собою хорду руга и потому был ненавистен для прямолинейной души Кокошкина. Все здание было сломано, и на место его выстроено то, которое в настоящее время мазолит глаза своею однообразною прямою линиею. Не легко было достигнуть идеальной прямой линии при постройке этого здания, так как не только в длину, но и в высоту стен здания Кокошкин зорко следил за выполнением прямой линии.
В то время известным и весьма капитальным подрядчиком по постройке больших казенных зданий был купец Елиокин,[78] которому и была поручена постройка этого здания. Но фронтовая стена его в разных местах, по приказанию генерал-губернатора, несколько раз разбиралась до основания и на счет подрядчика строилась вновь. Приедет, бывало, Сергей Александрович на постройку, станет с боку стены и посмотрит прищурив один глаз. «Криво», говорит: «ломать до основания!» Ему и то, и это – ничего не помогает. Наконец сам Елиокин на другой день утром дожидает его приезда. С ватерпасом и с отвесом в руке он доказывает Кокошкину, что стены совершенно ровны и потому не подлежат сломке. Но прямолинейный Сергей Александрович не принимал никаких доказательств и требовал, чтобы такая-то часть стены немедленно была сломана.
- Ваше-ство, – наконец, возразил Елиокин. – Ведь, если я начну ломать, то это будет уже в четвертый раз. Помилосердствуйте же! Кирпич, известь, песок, вода, наконец поденная стоимость каждого рабочего – все это приносит мне тяжелые убытки.
- Ты что это пустился со мною резонировать? – внушительно возразил в свою очередь подрядчику генерал. – Или ты забыл, с кем говоришь? Если сегодня не будет начата тобою сломка стены, то завтра утром я пришлю роту солдат, и они исполнят мое приказание…
Елиокину из двух зол нужно было выбирать меньшее, чтобы окончательно не разорить себя от постройки этого здания.
Казалось бы, можно было этим тяжелым уроком научить любого подрядчика не увлекаться предложениями Кокошкина взять на себя тот или иной подряд. Выстроив здание арестантских рот на Холодной горе и испытав уже на этом подряде железную роль генерала. Елиокин на постройке здания присутственных мест еще более убедился в необходимости на будущее время уклоняться от всяких казенных подрядов. Но не то готовила жизнь трудолюбивому и добросовестному подрядчику.
Кокошкин, как попечитель Харьковского учебного округа, затеял строить здание ветеринарного института и предложил Елиокину, чтобы все постройки и главный корпус здания института он взял на себя. Елиокин уклонился от предложения и даже не явился на торги. С торгов постройка здания должна была достаться купцу Гринчекову, дом которого был на Сумской улице. Но Кокошкин нашел торги совершенными неправильно и решил произвести постройку института экономическим способом, почему и послал за Елиокиным.
- Ну, мой незаменимый подрядчик, – любезно сказал генерал явившемуся перед его светлые очи Елиокину, – ты уж мне выстрой институт.
- Ваше-ство! Боюсь, опять не угожу вам. Пожалейте меня. У меня дети малолетки. А я на здании присутственных мест более тридцати тысяч понес убытку. А строил здание арестантских рот – только приход с расходом свел, а пользы никакой.
- Знаю, знаю я вас, хитрецов. Вы все плачетесь, а кто знает вас, знает и то, что вы плачете не о том, что в сундуке нет, а о том, что от излишка денег сундук не запирается…
- Ваше-ство! Не шутя говорю – боюсь взяться. Увольте, ради бога.
- Ну, и я тебе не шутя скажу. Чтоб я не сделался твоим врагом, ты оставь за собою постройку этого здания. А я тебя не обижу, слышишь? Ты подумай и завтра утром приходи ко мне с ответом.
Нечего было делать. Елиокин должен был постройку здания ветеринарного института оставить за собой. Кокошкин остался очень доволен послушным подрядчиком, и постройка здания начата. Чем-то фатальным отразилась эта постройка на судьбе Елиокина. Начиная с фундамента и кончая крышей здания, Кокошкин не упускал ничего в своих наблюдениях за постройкою. То фундамент был кос, то цоколь недостаточно высок, то окна требовали расширить их откосы. Стены, перегородки, печи, полы – все переделывалось по несколько раз, и пол в музее и в торжественном зале, устланной паркетом, четыре раза весь сламывался и вновь стлался на счет несчастного подрядчика. В дополнение нравственных мук и тяжелых убытков, Кокошкин удержал более двенадцати тысяч рублей, следуемых Елиокину за постройку здания, и окончательно разорил подрядчика. В конце шестидесятых годов наследники умершего Елиокина во вновь открытых судах, наконец, выхлопотали право на получение следуемых им двенадцати тысяч, и ветеринарный институт уплатил им эту сумму по определению сената.
Среди богатых купцов Харькова того времени был старожилом города богатый купец Скрынник. Он имел очень большую мастерскую, в которой шились из простого валеного сукна, темно-серого цвета, малороссийские свиты, с капюшоном (видлогой), лежавшим в виде пелерины на плечах и спине и служившим защитою головы и лица в метель и в дождь. Свиты шились по всем правилам малороссийского кравецства[79], и потому Скрынник был известен во всей Малороссии как самый искусный портной по части свит, и торговля его всегда шла успешно. Целыми возами отправлял Скрынник свиты своей работы во все города и деревни Малороссии. Киев, Полтава, Чернигов, Екатеринослав, Херсон и Одесса пользовались свитами скрынниковского производства, и его свиты были известны под общим названием «скрынок».
Если богатая малороссиянка выходила замуж за любимого парубка (парня), то на другой день свадьбы, в качестве сюрприза, дарила ему «скрынку», и этот подарок бывал предметом завести для многих.
Между тем, для арестантских рот, тюрем и этапных домов Харьковской губернии понадобилось значительное количество свит. А так как Кокошкин любил принимать во всем участие, то и в объявленном подряде на поставку арестантских свит для арестантских рот и тюрем энергичный генерал был заправилой дела. Генерал приказал пригласить к себе купца Скрынника, чтобы предложить ему взять на себя подряд поставки необходимых свит.
Но тут «нашла коса на камень».
Скрынник знал хорошо, что значит взять подряд у Кокошкина, и порешил отказаться от генеральского предложения. Выслушав предложение Кокошкина вступить в подряд на поставку свит Скрынник ни капли не смутился и дал отрицательный ответ.
- Кланяюсь и благодарю ваше-ство за предложение, но я ни в какие подряды не вступал и в этот подряд вступать не желаю. А продать вашему-ству свиты на выбор, сколько угодно штук – могу.
- Нет, Скрынник, ты возьмешь от меня этот подряд! – внушительно ответил Кокошкин.
- Нет, ваше-ство. Я этого подряда не возьму! – спокойно и тоже внушительно ответил Скрынник.
- Так я тебя заставлю взять, – возвысив голос сказал Кокошкин.
- Та це вы лякаете (пугаете) меня, – опять покойно ответил Скрынник. – Заставить вы меня не заставите, а я сам тоже не возьму этого подряда, на том мы и разойдемся с вами…
Скрынник почтительно поклонился генералу и, не дожидаясь никаких возражений со стороны его, вышел из приемного зала и уехал к себе домой.
Кокошкина, не привыкшего к таким аудиенциям, так поразил Скрынник своею невозмутимой смелостью, что он не мог продолжать прием и ушел в свой кабинет, откуда выслал сказать, что прием окончен. Начались толки по городу, и Скрынника большинство жителей оплакивало заблаговременно, как человека, который должен погибнуть от оскорбленного генерала. Но упорный хохол не унывал. Не входя ни с кем в разговоры об этом предмете, он покойно делал свое дело.
Между тем, усердные люди, желавшие услужить Кокошкину, уговаривали Скрынника войти в подряд, и даже председатель казенной палаты советовал Скрыннику согласиться на предложение генерал-губернатора.
Но все было напрасно. Скрынник невозмутимо стоял на своем решении, никакие соблазны не могли поколебать его.
Кокошкин волновался и никак не мог примириться с тем, что купец осмелился ослушаться его и так стоек в своем слове. Но более всего его возмущало то, что враг неуязвим и что ему, полновластному генерал-губернатору, не возможности в чем-либо уличить Скрынника, чтобы в возмездие насолить ему.
Среди богатого купечества того времени был купец и в то время городской голова – Рудаков. Его, как и Скрынника, Кокошкин недолюбливал и называл их мозолями.
- Уж эти два мозоля! – иногда говорил генерал как бы шутя. А уж когда-нибудь я их срежу.
Скрынник, как я уже сказал, был малороссиянин, и дед его был выходцем из Запорожья. А Рудаков был коренной русак, а по деду своему – новгородец. Оба они были друг с другом знакомы, но дружбы тесной не вели и с недоверием относились один к другому. Скрынник называл Рудакова «москалем», а Рудаков обзывал Скрынника «мазепой».
Глубоко почитая и уважая местного епископа, как тот, так и другой за великую честь и даже за духовную благодать считали посещение их домов владыкою. В то время жизнь была проще, этикет соблюдался небольшой, а потому более частое общение с владыкой было явлением обычным, а, к слову говоря, как Скрынник, так и Рудаков оба были богатые люди и радушные хлебосолы.
Так жили два денежных туза, не питая друг к другу никакой вражды, хотя и без особенной дружбы. Но бывает ли между людьми продолжительный мир? Совершенно случайно оба богача носили одно имя. Как того, так и другого звали Алексеем. Тезки оказывались именинниками в один день, 17 марта, на Алексея теплого. Вот тут, как говорят немцы, и «ist der Hund begraben»[80]. Как Скрынник, так и Рудаков каждый год, в день своих именин, в приходской своей церкви служили торжественно обедни и молебны о здравии и благополучии своем. Но так как Скрынник был приходом к храму Благовещения, а Рудаков – к храму св. Троицы, то для того, чтобы в этот день видеть в своих приходских церквах архиерейское служение, им приходилось чередоваться по годно: один год Скрынник приглашал архиерея служить в своей церкви, а другой – Рудаков. Так шло дело много лет. Но с Рудаковым случилась весьма неприятная история. Он потерпел от пожара, а затем вошел в немилость Кокошкина и по представлению генерал-губернатора был сослан в Уфу на два года. Об этой ссылке я буду говорить подробно в следующей главе, а в настоящее время буду продолжать рассказ о временных отношениях Рудакова и Скрынника.
Перенеся таких два тяжелых удара в жизни и перенеся их, относительно говоря, благополучно, Рудаков устроил в Троицкой церкви на свой счет престол во имя своего ангела – Алексея божьего человека, а это дало ему право ежегодно просить местного епископа служить 17 марта торжественную обедню в приделе Троицкой церкви. Благодаря этому Скрынник лишился навсегда возможности в день своих именин слушать в Благовещенском храме архиерейское служение.
- Вот такой-то москаль, – обыкновенно говорил Скрынник при встрече с Рудаковым. –Недаром у вас, у москалей, Алексей называется «теплым»! И казаты ничего, – ты теплый, теплый москаль!..
- Ну, а ты какой? Ты значит – божий человек? Хорош тоже божий человек. Вишь вон какой верзило вырос?.. – Скрынник действительно был высокого роста. С тех пор при встрече этих двух Алексеев Скрынник получал прозвище «божьего человека», а Рудаков – «теплого москаля».
Тяжело было вступать в подряд при Кокошкине для сооружения какого-либо здания, но еще тяжелее было брать у Кокошкина подряд на производство каких-либо гидравлических работ. При устройстве дамб, плотин и мостов энергичный генерал бывал жесток и неумолим как сатрап древней Персии.
Давно уже генерал замышлял начать постройку моста через реку Харьков, при конце Московской улицы. Наконец был заключен контракт с подрядчиком Авиловым, и сдана ему постройка того непоколебимого моста, который и в текущие дни, как старый ветеран, стоит, не колеблясь на своих основах, удивляя своею стойкостью современных инженеров и строителей. А между тем, сколько лет вынес на своих раменах этот старина-мост, через полотно которого со дня его существования много и много раз проходили полки со своею тяжелою артиллериею, тянулись несметные обозы, нагруженные тяжелым товаром, и с быстротою птиц по дороге в Чугуев провозили много лет императора Николая Павловича, а затем – Александра II. Полвека назад построенный, без всякой претензии на красоту и изящество, но с настойчивым требованием сказочной прочности, мост этот, срубленный рукою новгородца, как неуклюжий слон, стоя крепко на своих устоях, дожил до того, что прихотливая цивилизация текущих дней прожила по его ребрам железный путь трамвая и, точно лучом радостного дня, ярко осветила его морщинистое лицо электрическим светом. И стоит он, кичась своею крепкою старостью; и не говорит он никому, скольких жизней человеческих стоила постройка его; и замалчивает он целые десятки драматических сцен, целые ковши горючих слез и стенаний тех, которые жизнь свою кратковременную положили в залог его полувековой прочности…
Кокошкин не жалел ни городских сумм, ни сил и жизни работавших его людей. Когда мост был окончен, расчет за него с подрядчиком был отложен до весенних вод, для того чтобы исследовать прочность постройки и испытать ее устойчивость. Весна в тот год была ранняя и теплая, а зима – снежная и богатая метелями. В марте месяце сошел снег, и зашумели потоки и ручьи, вздулись реки, вышли из своих берегов, и массы льда двинулись точно на штурм к плотинам и мостам, разрушая их как ненавистные преграды для быстрого течения весенних вод. Подошли льды и к харьковскому мосту. Громадные глыбы их напирали на быки со всею силою своего наплыва. Взлезая на спины и головы быков и покрывая их собою, точно сплошною крышею, они давили быки книзу и леденили холодом своим их бедные головы. Но быки крепились и стояли, охраняя любимый генералом мост. Между тем, льдины, перебираясь через их вершины, с грохотом падали в воду, группируясь в безобразные горы у самого моста. А вода все прибывала, разливалась по берегам и отрезывая по обе стороны моста сообщение с ним. Мост трещал в своих связях, и быки значительно накренились в сторону, не выдержав напора массы льда.
Вскрылась река около пяти часов пополудни, и потому самая неотразимая сила напора вод и льда началась с восьми часов вечера. А в одиннадцать часов ночи подъем силы напора льдов дошел до maximum’а грозил мосту не на шутку. Один из средних быков был подмыт и выворочен водоворотом так, что лежал боком, покрытый льдом и водою.
Услышав о критическом положении моста, Кокошкин приехал в десять часов ночи и немедленно послал за арестантами. Прибыли арестанты и по распоряжению генерала взобрались на сугробы льда. Но работать можно было не иначе как только с фонарями. А потому немедленно, несмотря на одиннадцатый час ночи, генерал-губернатором было приказано купцам Карталову и Кочетову, торговавшим железным и скобяным товаром в лавках, ныне занятых зеркальным магазином и чайною торговлею против биржи, отпереть свои лавки и выдать за счет казны двадцать фонарей, так как без огня работать было невозможно, а при полицейских управлениях нашлось только три фонаря.
Быстро прибывала вода, но быстро ставил препоны ей энергичный генерал. Арестанты ломали, разбивали плиты льда, которые с шумом валились в воду, образуя густую массу в колыхавшейся и черной, как сама ночь, воде.
Некоторые из арестантов были привязаны веревкой к основе моста. Другие, за недостатком веревок, работали так. Фонари немедленно были зажжены и розданы арестантами. Сергей Александрович распоряжался, стоя в своем экипаже, который был хотя и на берегу, но стоял в воде выше подножек.
Вследствие сильного порыва ветра, вновь прибывшие глыбы льда сделали напор на груду накопившегося раньше льда, которая всколыхнулась и таким движением нарушила устойчивость почвы под ногами работавших арестантов. Неожиданно несколько фонарей пошли ко дну, а вслед за ними скрылись с глаз и два арестанта. Лед быстро затер собою несчастных, и они пошли ко дну. На рассвете дня один из них был вытащен из воды, благодаря веревке, которою он был привязан, а другого, четырнадцать суток спустя, нашли всплывшим в реке Донце, вблизи Святогорского монастыря. За двумя жертвами последовали две новых: два городовых по распоряжению генерала побежали по перилам моста, чтобы передать фонари с огнем на другую сторону моста, на как-то оступились, упали в реку и были затянуты течением воды под мост. И вот не прошло и часу времени, как существование моста было обусловлено жертвою четырех живых и здоровых людей, обещавших долгую и, быть может, полезную жизнь.
Невозмутим был Сергей Александрович при виде всего происшедшего. Вдруг на его глазах сильным ударом громадной льдины вышибло из-под моста одну сваю и быстрым течением вешних вод понесло ее под мост и далее. Увидев такое поражение своего любимого детища, генерал крикнул на арестантов и приказал им баграми ловить сваю. Но свая скрылась с глаз ловивших ее и не была поймана. Затем вышибло из гнезд в разных местах еще пять свай и унесло их течением. Кокошкин сердился, кричал и волновался настолько, что по временам забывал свое положение и бранился крепкими словами.
По немедленному распоряжению его, несмотря на поздний час ночи, на место происшествия был доставлен подрядчик, взявший на себя постройку злосчастного моста. Накричал на него генерал-губернатор, затопал ногами, несколько раз с досады выбранил его и приказал, чтобы по окончании половодья он приступил к переделке всего моста, прибавил бы свай, железных связей и болтов; в противном случае он отдаст его под суд, залог денежный оставит в пользу казны и конфискует все его имение впредь, пока не будет окончен мост кем-либо другим.
Повинуясь приказаниям грозного генерала и спасая семью свою от угрожавшего ей нищенства, подрядчик долгое время то переменял, то прибавлял сваи, пока разорился вконец и на Основе, в густом сосновом бору, повесился, оставив жену и троих детей без средств к существованию.
Умершего подрядчика заменил другой. Но окончил этот фатальный мост уже третий подрядчик, который на оставшиеся залоги и проданную недвижимость первых двух подрядчиков почти весь мост переделал, вогнав в дно реки, ставя сваю на сваю, более двухсот паль[81].
И по сей день стоит это мост – могила черная нескольких человек – и, как старый ветеран, трясется он, содрогаясь всем своим телом даже от тихой езды по нем. И сторожат его от разрушения такие старые, как и он, быки, ожидая из года в год, что придет иной человек, освободит их от долголетней службы и выстроит новый мост, более красивый и прочный и нежадный к таким человеческим жертвам, какими богат этот дряхлый ветеран…
Но, кажется, далеко еще то время…
С не меньшею любовью и заботою С.А. Кокшкин следил за работами по устройству набережных на всех трех реках города Харькова. Следы этих ровных, прочных и даже красивых набережных и теперь еще кой-где сохранились по течению трех рек: Лопани, Нетечи и Харькова. Для таких работ, распределенных по участкам, на несколько лет в Харьков были выписаны из глубокой России грабари и землекопы – люди, о которых харьковцы до тех пор знали только понаслышке.
Нельзя было не удивляться той энергии, с какою генерал одновременно занимался уравнением линий улиц, постройки мостов, усовершенствованием противопожарных мер, обделкою берегов рек и, наконец, мощением мостовых и исправлением тротуаров. Но в то же время не могу умолчать о том, что он был в этом деле «один в поле воин». Ему никто не сочувствовал, все были против него, и много хороших затей по благоустройству города не было приведено в исполнение или обошлось второе дороже только потому, что граждане Харькова старались делать ему подвохи и тормозить работы по доставке материалов. Кокошкин был первым инициатором проекта соединения реки Донца с харьковскими реками, устройства водопровода и водоотвода, углубления фарватера рек. Имелся даже у него проект устроить ассенизацию для всего города. Но неподвижно было к новшествам наше общество, и на все его благие затеи отвечало оно всеми возможными и зависевшими от него ухищрениями и препятствиями. Можно положительно сказать, что если бы не широкая власть, данная Кокошкину государем, он ничего бы не мог сделать в Харькове хорошего, и до наших дней наш родной город принимал бы грязные ванны и, как Нарцисс, любовался собою, отраженным в лужах и замоинах, не высыхавших на некоторых улицах даже в дни засухи. И если наши соседи – иностранцы – упрекают русских в «improductivite slave»[82], то харьковцы всегда первыми заслуживали этот упрек, потому что действительно отличались неподвижностью и непроизводительностью. Всматриваясь в дела города того времени и в упорное противодействие представителей городской думы всему, что затевалось даже грозным Кокошкиным для благоустройства города, нельзя не удивляться той отчаянной борьбе, какую вели городские головы, ратманы и бургомистры, совместно с богатым купечеством, отстаивая свою любовь ко всему старому, рутинному и отжившему. Резок в своих требованиях и настойчив был генерал, не щадя иной раз никого и ничего, во имя осуществления намеченного им предприятия. Но граждане города, в лице лучших представителей своих, иногда были упорны до исступления и несговорчивы до глупости. И если Кокошкин в крайних случаях хватался за крайние меры, чтобы совершить дело, предпринятое им, то и граждане города, чтобы помешать успеху дела или совсем затормозить его, не брезгали никакими средствами и иногда пускались на такие хитрости, которые не могли не вывести из терпения даже самого сдержанного и покойного человека. И чего ни придумали, злорадствуя ему.
То все харьковские подрядчики, бравшие на себя по постройкам зданий или мостов и, конечно, имевшие связи с богатыми торговцами, подговаривались на брать ни одного подряда, и Кокошкин был вынуждаем выписывать подрядчиков из других губернии, чтобы не откладывать дела на неопределенный срок, то, как это бывало в других случаях, ни у кого нельзя было купить необходимого материала, что, например, случилось при устройстве набережных и мостовых, так что необходимо было этот материал выписывать из Екатеринославской и других губерний, платя за него тройную цену и нередко ожидая три и четыре месяца за распутицей и бездорожьем чтобы перевезти его на место постройки. Казалось иной раз – люди без ужасающей грязи, без тьмы кромешной по ночам, без рек, полных зловония, не могли жить и считали себя несчастными, потому что явился среди них человек, который задался мыслью освободить от этих ужасающих прелестей.
Для постройки мною описываемого моста необходимо было выписывать подрядчиков-строителей даже из Москвы и Петербурга. И если бы не энергичная рука завзятого генерала и не его железная воля, то Мироносицкое кладбище, мною уже описанное и долго служившее картиною «мерзости запустения», ловушкой для проходящих и притоном для бродячего люда, еще долго и долго стояло бы свидетелем тупоумного равнодушия граждан города к удобствам городской жизни и к благообразию его.
Когда Кокошкин увидал Мироносицкое кладбище и призвал в то время бывшего городским головою Рудакова с целью поговорить с ним о немедленной необходимости очистить все пространство, занимаемое кладбищем, от памятников, крестов и оградок, засыпать могилы и сравнять местность, то городская дума в лице всех представителей ее дала от себя отзыв, что у нее «на такое предприятие, могущее быть отложенным на более продолжительное время, денег не находится».
- А сколько у вас теперь есть денег на лицо? – спросил у городского головы Кокошкин.
Городской голова дал приблизительно ответ.
- Немедленно принести мне денежный ящик, – внушительно и безапелляционно решил Кокошкин.
И генерал поверил сумму, записал к себе в книжечку и, отложив в особый пакет за собственноручной подписью необходимую по смете для очистки кладбища сумму, принялся за работу, употребляя гарнизонных солдат и арестантов, которые по снятии памятников и засыпке могил были отпущены обратно. В две с половиною недели все кладбище было снесено и перестало безобразить город. А среди обывателей слышались толки о том, что Кокошкин даже на святыню простер свою руку и уничтожил кладбище.
- Да чему же тут удивляться? – говорили почтенные граждане. – Он скоро здания начнет скапывать с места!
И граждане не ошибались. Далеко отступая от церкви во имя св. Николая, стояла, безобразная деревянная колокольня как отдельное, будто самостоятельное здание. В нижнем этаже этого здания, давно нуждавшегося в капитальном ремонте, с проржавленным от времени и погнутым от ветхости крестом, были лавчонки, в которых продавались кресала, трут, хохлацкие люльки (трубки), мел громадными глыбами, и в небольших шарах желтая глина, гвозди, удочки, мочальные щетки для смазки глиной лежанок и загнеток русских печей и, наконец, тарань, бадьян, шафран и мускатный орех для хохлацких пасок.
Так как проезд в довольно широких размерах свободный по обеим сторонам колокольни, то почти постоянно вокруг этого здания располагались приезжие хохлы с парами волов, запряженных в неуклюжий воз. Хохлы не спеша и с похвальною предусмотрительностью покупали люльку или кресало, выбирая долго, долго самые наилучшие; иные, сидя на возу, ели тарань; волы кушали сено. И те и другие сорили и оставляли по себе удобрение для почвы, и картина была полна черт местной культуры, наглядно указывая наблюдателю ту ступень цивилизации, на которой мы, харьковцы, стояли в те годы. Кокошкин, недолго думая, дал торговцам люльками и кресалами для приискания себе других помещений два месяца срока, по истечении которого служителями гарнизона сломал колокольню до основания, а архитектору Тону приказал начертить фасад надстройки над входом в храм помещения для колоколов.
- А что? Не говорили ли мы, что он начнет и здания ломать? – вопияли обыватели города. – Шутка ли? И колокольню срыл до основания. И чем она ему мешала? За одну ветхость следовало бы не ломать ее… Экий безбожник…
Но как бы ни было, а чем ревностней генерал занимался благоустройством города, тем чаще он наталкивался на враждебное отношение к себе обывателей.
Кокошкин не переставал бороться с ужасающею грязью города и тянул укладку мостовой по главным улицам его. Но город предъявлял массу неотложных нужд, требовавших в свою очередь расходов больших денежных сумм, а городская дума была так бедна статьями дохода, что нужно было прибегать к экстраординарным мерам увеличения городских средств. И вот для того, чтобы мостовые можно было продолжать тянуть каждое лето безостановочно, прокладывая их не только по главным, но и по побочным улицам города, Кокошкин силой своей власти, через думу, наложил на всех граждан Харькова названный им «мостовой налог». Этот налог налагался на всякого обывателя города Харькова, имеющего недвижимую собственность, обязанность, соразмеряясь с количеством квадратных саженей, занимаемых их домами по улице и до середины улицы, вносить каждый год известную сумму денег для прокладки мостовых.
Жители, не привлекшие к налогам и считавшие великим бременем для себя исправно делать взносы даже по тем статьям, какие искони существовали во всех городах России, были возмущены таким налогом генерал-губернатора и подняли поголовный ропот против его распоряжения. В то время городским головою был купец А.М. Рудаков. Торговал он колониальным и бакалейным товаром оптом и, как весьма богатый человек, был по характеру весьма самонадеян и решителен. Его окружали сотоварищи по профессии – богатые, как и он, торговцы – и, влияя на его самолюбие, убедил его дождаться проезда государя через Харьков в г. Чугуев и при поднесении ему на блюде хлеба-соли подложить под хлеб прошение – жалобу на его высочайшее имя, прося государя от имени всех граждан города избавить их от такого ненавистного и безжалостного генерал-губернатора, каким заявил себя с первых дней своего приезда С.А. Кокошкин.[83]
Как всегда в этих случаях, государь принял хлеб-соль и тотчас же передал блюдо своему адъютанту. Говорить ли о том, что прошение, поданное Рудаковым за собственноручною подписью, было передано государю, а государь, читав жалобу, передал его своему любимцу на все изложенные пункты.
По расследовании, все граждане, на которых опирался Рудаков, – Сериков, Медведкин, Скрынник, Кочетов, Ковалев, Рыжов, Кувшинников, Медведев, и многие другие купцы, – отреклись и отказались от участия своего в составлении жалобы и даже хвалили распоряжение генерала, благодаря государя за то, что он был настолько милостив к городу, что приказал генералу «вытащить его из грязи».
Рудаков неожиданно остался один в деле протеста против генерал-губернатора и был сочтен не только за инициатора этого дела, но и за возмутителя других граждан города против поставленного над ними самим царем начальника.
Между тем, Кокошкин, не желая губить Рудакова, а осознавая при этом крайнюю необходимость поддержать свой престиж среди городского населения и сразу ампутировать у горожан охоту заниматься протестами, просил государя удалить Рудакова без лишения каких-либо прав и преимуществ, по званию и состоянию ему присвоенных, в город Уфу на два года, но придать этому удалению посредством обстановки значение ссылки по повелению государя императора. Это было необходимо сделать, как объяснил Кокошкин для того, чтобы внушить гражданам дух покорности и безусловного повиновения его власти, которую давно уже подрывали и расшатывали, препятствуя делать дело возрождения города.
Государь внял просьбам генерала и подписал указ о ссылке купца Рудакова в г. Уфу на два года без лишения прав, присвоенных ему по званию и состоянию.
Купец Рудаков был женат вторым браком, от которого он имел пяти лет дочь Александру, а от первого брака у него было три взрослых сына и четыре дочери – невесты.
В октябре месяце было объявлено Рудакову высочайшее повеление, ему был дан месяц льготы для приведения в порядок своих торговых дел и в декабре месяце назначен был день его выезда или ссылки. Кокошкин позаботился выезд в ссылку Рудакова обставить насколько возможно картинно, чтобы он поражающим образом мог повлиять на толпу и тем стать внушительным для всех и каждого порознь.
На парном извозчике, с открытым верхом, в сопровождении двух жандармов с саблями наголо, был препровожден в десять часов утра А.М. Рудаков в зал харьковской городской думы, помещавшейся при полицейском управлении, на Николаевской площади. Там ожидали его все служащие думы с губернатором во главе. В это же время в думу были приглашены с подпиской обязательной явки купцы и лучшие обыватели города. Губернатор прочел высочайший указ, и затем Рудаков был посажен в простую тележку с двумя жандармами по бокам с саблями наголо. Тихим шагом телега двинулась через весь город, держась самых многолюдных улиц. Сзади и по бокам телеги шел взвод конных казаков, а впереди телеги ехало четыре конных жандарма с обнаженными саблями. Казалось, будто Рудаков был одним из самых опасных и жестоких преступников, уже не раз бежавших из-под стражи, почему в данном случае и назначен был за ним такой усиленный надзор. Между тем, как оказалось впоследствии, все это было придумано и устроено ради картины, которой угрожали всем обывателям. Многотысячная толпа, состоявшая из всех обывателей города и из пригородных сел и деревень, начиная от малолетних и кончая людьми, удрученными старостью, собралась смотреть, как будут отправлять в ссылку купца Рудакова. Дети Рудакова от первого брака, а также родственники его, большое количество дрожек, фаэтонов, колясок и ладно, запряженных лошадьми, ценою от сорока рублей за лошадь и кончая тремя тысячами за пару, с седоками в тысячных шубах и салопах, ехали, едва двигаясь, вперед, пробираясь сквозь толпу и провожая в ссылку осужденного, который сидел и открыто, не робея, а иногда и улыбаясь, посматривал из стороны в сторону, отдавая поклоны знакомым, как будто не сознавал себя виновным. Толпа народа, без преувеличения говоря, ревела и стонала. Вопли и стенания, прочитывания толпы, направляемые по адресу осужденного, говорили, что народ с живейшим участием относится к его участи и горючими слезами оплакивает его горькою долю.
- Голубчик ты наш, защитник дорогой! – слышались причитания из толпы. – За нас пострадал, ради нас не пожалел себя!
Говорить ли о том, что все эти причитания исходили в большинстве из уст женщин и детей, которые, точно густая масса теста, переливаясь с места на место старались пробираться ближе к повозке Рудакова, чтобы посмотреть ему в лицо.
Среди этой массы плакальщиц большинство было и таких, которые совсем не знали Рудакова и даже никогда не видели его.
Ревнив и строг был надзор за осужденным. Взвод казаков охранял с трех сторон телегу. Едва толпа начинала сильно колыхаться, направляясь к осужденному, как казаки дружней и плотней окружали повозку и, поднимая вверх свои плети, с размаха опускали их на тех, которые сильно напирали на повозку. А в это время жандармы на конях крупами лошадей своих, не смотря, куда пятится они и на кого напирают, осаживали и малых и старых, постоянно оглушая воздух криками: «раздайся, осади, берегись». И если к этому мы прибавим двух барабанщиков, которые впереди жандармов шли и не переставая били тревогу, и не забудем упомянуть о ржании тысячных лошадей, то перед нами развернется картина, полная потрясающих душу эффектов, искусственно освещенная в расчете произвести удручающее впечатление на толпу…
День ссылки Рудакова был днем какого-то траурного празднества, и целый день народ ничего не делал.
Пройдя не мало улиц, наконец выбравшись за город, процессия не переставала идти в должном порядке еще две версты. На третьей версте, несколько в стороне от дороги, стоял возок, запряженный четвериком рослых и сильных лошадей. Тут вся процессия остановилась, и картина изменилась по своему содержанию. В возке сидела молодая жена Рудакова с единственною своею дочерью пяти лет. Рудакова окружили все его родные и знакомые, началось прощание, в морозный воздух взлетела не одна пробка с шампанского, и Рудаков, этот ужасный преступник, которого нужно было охранять такою когортою солдат, спокойно сел в возок, совместно с женой своей и дочерью, на козлах поместился жандарм, укрыв себя с головой и с ногами в волчью шубу, припасенную для этого Рудаковыми, и возок, весело побрякивая колокольцами и бубенцами, двинулся в путь.
- Эй, вы, родимые да буланые! Перезябли вы, выжидаючи! Нутко по снежку да по рыхлому, пробежитесь быстротой иноходью!..
Так ямщик, выпивший хорошую чарку водки, поднесенную осужденным, садясь и умащиваясь на козлы, ободрял лошадей своих и, наконец, двинулся в путь.
Все было окончено. Народ начал расходиться, пораженный чудесной метаморфозой. Он никогда не видал так уезжавших преступников. Что же это было? Театр на открытой сцене или маскарад с переодеванием?
А.М. Рудаков вольготно ехал в ссылку. Теплый и поместительный возок, всегда прекрасный четверик лошадей, казенная подорожная, дающая право не испытывать задержки при перемене лошадей, охрана в лице жандарма и, наконец, совершенная свобода останавливаться в гостиницах по выбору и на более продолжительное время, – все это, вместе взятое, облегчало положение в пути не только ссылаемого, но и его жены с малолетней дочерью.
Долго ли, скоро ли прибыл Рудаков в город Уфу, но все же путь его был окончен, и он остановился в лучшей гостинице, а затем поспешил представиться местному губернатору. Губернатор прочитал бумагу, врученную ему жандармом, и, сдвинув плечами в знак удивления, спросил ссыльного:
- За что же тебя сослали сюда?
- То есть вот каким манером, ваше-ство, – ответил Рудаков. Полагаю за то меня сослали в Уфу, что я за всю свою жизнь не бывал в ней и не видел ее…
- Ну, так вот теперь посмотришь и увидишь, – ответил губернатор. – Ты здесь свободен. Иди и живи, где угодно и как угодно. Но только два года ты не имеешь права выехать из Уфы за город далее двенадцати верст…
Рудаков нанял большой деревянный дом, с антресолями и с дворовыми постройками, и зажил в нем, как барин. Знакомство с высокопоставленными лицами, лошади, экипажи, прогулки за город и на рыбные тони были к услугам богатой семьи, и двухгодичная жизнь в Уфе Рудакова была не ссылкой, а скорее продолжительным пребыванием его в гостях.
Желая разнообразить свою жизнь, Алексей Михайлович начал в Уфе учиться столярному ремеслу, которое ему далось весьма легко, и он сделал две модели с того дома, в котором он жил в «ссылке».
Наконец срок ссылки окончился, и Рудаков выехал обратно в Харьков и, как преступник, отбывший узаконенный срок наказания, должен был явиться к генерал-губернатору Кокошкину.
- Ну, что, Рудаков, – обратился к нему Кокошкин, – как тебе в Уфе было жить?
- То есть вот каким манером: здесь – Сибирь, – указывая на Харьков, ответил Рудаков, – а в Уфе – рай…
- Ну, вот видишь, куда я тебя сослал. А ты еще сердишься на меня…
Любя хороших лошадей, Рудаков привел из Уфы две пары чистокровных вяток. Малорослые лошадки цвета верблюжьей шерсти, покойные и несмотря на малорослость, красивые, в то время были совершенною новинкою в Харькове и многих интересовали собой. Эта новость дошла до слуха Кокошкина, который, недолго думая, приказал Рудакову явиться.
- Вот зачем я призвал тебя к себе, Рудаков, – сказал Кокошкин. – У тебя, говорят, две пары хороших вяток.
- Да есть, ваше-ство, – ответил Рудаков.
- Ну, уж ты мне продай парочку, по старому знакомству, – смеясь сказал Кокошкин.
- То есть вот каким манером, ваше-ство, – смело ответил Рудаков, – я никогда не цыганил лошадьми и потому продать не могу. А прислать вам пару вяток – пришлю. Ездите на них на здоровье.
И того же дня Алексей Михайлович приказал отвести пару вяток в квартиру генерал-губернатора.
И это было последнее столкновение и свидание Рудакова с Кокошкиным.
Но как ни счастливо и покойно жилось Рудакову в Уфе, все-таки его двухгодовое отсутствие из Харькова весьма тяжело отразилось на его большой и завидно поставленной колониальной торговле. Товар был расхищен и роздан в кредит неблагонадежным лицам, почему получить за товар деньги было весьма трудно. Между тем, собственные долги оставались неоплаченными. Положение по торговле Рудакова было трудное, и он поехал в Москву, чтобы войти в соглашение с кредиторами и отсрочить на более дальний срок платежи по неоправданному кредиту.
Тяжела и трудна была эта поездка для Алексея Михайловича, привыкшего всегда оправдывать кредит даже двумя-тремя днями раньше сорока, и нужна была большая решимость и сила воли, чтобы этому гордому человеку решиться стать лицом к лицу с своими кредиторами и заявить им без обиняков, что он разорен, что он платить тотчас полным рублем не может. Но и в данное время, считая себя правым, он с открытой головой пошел навстречу тяжелому самоуничтожению.
Но какова же была его радость, когда московские купцы и фабриканты, более двадцати пяти лет знавшие Рудакова как примерного плательщика и знавшие упадка его торгового дела, а также незаслуженную им ссылку, встретили его в Москве с открытыми объятиями, сделали ему обед, не жалея яств, не считая дюжин шампанского, и чествовали его как человека, который пострадал не за свои личные, а за общественные интересы. Ему половина долга была прощена, другая половина отсрочена, и дан был товар в кредит на большую сумму.
Торговля Рудакова пошла вновь блестящим образом, и еще так недавно приниженный и опозоренный человек вновь восстал и начал новую жизнь, при достатке и общем почете со стороны всех граждан города.
Началась жизнь новой гласной думы, и он вновь был избран в число гласных ее. Но Рудаков отказался от этой чести далеко до окончания срока, на который он был избран, и жизнь его из открытой общественной сделалась замкнутой и доступной для весьма немногих…
Я уже говорил, что генерал Кокошкин в своей деятельности касался нередко не только общественных и городских интересов, но и частных недоразумений и столкновений, которые были ему известны вследствие принесенных ему жалоб обиженным или обиженной.
Начну с общих, чтобы перейти к частным. В 1852 году в городе Харькове выпал настолько крупный град, что среди общей величины градин в вишню попадались градины неправильной формы, величиною в куриное яйцо. Все стекла в институте благородных девиц, в гимназии, в присутственных местах и вообще в большинстве домов города, имевших окна на восток, были выбиты. Несмотря на большой оптовый склад стекол в магазине генерала Мальцова, а также и в других посудных стекольных лавках, стекла приходилось экстренно выписывать из Полтавы и из Курска, как из ближайших городов к Харькову. Нет сомнения, это повело к стачке между торговцами, и цены на стекла подняты были до баснословной величины. За шипку полубелого стекла нужно было платить рубль серебром. Что же касается белого стекла, то за шипку такового платили по рублю пятидесяти копеек. Кокошкин одним взмахом пера установил цены на стекло: за шипку полубелого – двадцать пять копеек и за шипку белого – пятьдесят копеек. И, несмотря на такое усиленное понижение цен на стекло, граждане города понесли тяжелую потерю от этого града.
Вследствие плохого улова рыбы тарани (воблы), как известно, весьма любимой во всей Малороссии, цена на эту рыбу поднялась с трех копеек за штуку до пятнадцати копеек. Говорить ли о том, что всеми рыботорговцами, а также всем базаром была сделана стачка, почему цена на тарань так и повысилась. Малороссияне повесили головы и зажурились[84]. Для малоросса тарань и трубка тютюна – это фонд благополучия и радости жизни. Кто бывал среди коренных малороссиян, особенно среди косарей, тому, вероятно, приходилось не раз слышать:
- Як тарани та люльки не стане и соньце свитыты перестане! (Если тарани и трубки не станет, тогда и солнце светить перестанет).
Описываемое время, вследствие воздорожания тарани, близилось к тому, чтобы солнце Малороссии померкло. И потому нужно было предпринимать меры для предупреждения такого выдающегося несчастья. Кокошкин установил повсеместно цену, и тарань за штуку начали продавать не дороже семи копеек.
Так же энергично и быстро отнесся Кокошкин и к стачке продавцов муки и хлеба, вследствие бывшего в тот год недорода в Харьковской, Полтавской и Курской губерниях. Дороговизна муки и хлеба просуществовала только два дня, а затем были Кокошкиным восстановлены нормальные цены.
Но перейдем к частным случаям.
У генерала, ревнителя благонравия и благочиния, был лакей Мартын, а у генеральши была горничная Евфимия. Так как Мартын состоял при буфете, куда, по поручениям генеральши нередко являлась горничная Евфимия, а Мартын был один из заядлых Herzfresser’ов[85], то в конце концов, частые столкновения этих двух противоположных полюсов дали искру, которая заставила говорить о себе весь генеральский двор. Дело в том, что милый Мартышечка обещал Химочке на ней жениться. Химочка отнеслась с полным доверием к его обещанию и , не дождавшись венца, полюбила молодца. А молодец клятвы свои забыл и Химочке изменил. Не выдержала Химочка такой жестокой лжи и пожаловалась на Мартышечку своей генеральше, которая поспешила все слышанное ею передать своему генералу. А генерал, недолго думая, Мартына высек розгами при полицейском управлении, а потом женил его на Химочке и оставил у себя служить буфетчиком. И Мартышечка с Химочкой зажили мирно, как голубки, воркуя о былом...
Такой покровительный взгляд генерала на отношения одного пола к другому ободрил многих девиц и вдов среди обывателей города. Жалобы их на дон-жуанов из их среды начинали сердить генерала, отнимая у него не мало времени, и он, наконец, стал настороже. И вот молодая девушка Авдотья Пузанкова задумала принести жалобу генералу на одного молодого повара, двадцати трех лет, служившего в его кухне, Игнатия Сапуна, красивого и юркого ловеласа.
Генерал призвал его к себе на аудиенцию.
- Ну, без дальних околичностей, говори мне, что и как было? Но только помни, что ты говоришь мне, а потому – предупреждаю – не лги. Ты был коротко знаком с этой женщиной? – спросил его строго генерал.
- Виноват ваше-ство! – ответил без запинок повар.
- Молодец, что не врешь! – ободряя подсудимого, сказал генерал. – А жениться на ней ты обещался?
- Обещался, ваше-ство! Так точно! – отвечал повар.
- А ты поверила его обещаниям? – обратясь к Пузанковой, спросил генерал.
- Да как же не поверить? Так ладно, значит, мы с ним жили, и не поверить? Конечно, поверила. А он, ваше-ство, обманул меня.
- Ну, так вот мое решение! – сказал генерал. – Тебя, чтоб ты впредь не верила на слово, а тебя, чтобы они не лезли ко мне с жалобами, высечь при полиции, каждому по сорок розог.
Взять их сейчас в полицейское управление! –сказал генерал дежурному квартальному и сам удалился в свой кабинет.
Но как ни был Кокошкин краток и рационален в своих судебных решениях, а все же не обошлось без случая, который налагает тень на него, как на юриспрудента, представителя нелицеприятной и строгой Фемиды.
Во время севастопольской компании в г. Харьков присылали не мало офицеров из действующей армии, выпущенных из госпиталей и лазаретов и нуждавшихся в продолжительном отпуске для поправки своего здоровья после перенесенных ран и повреждений. Почти не было ни одной богатой семьи, ни одного богатого дома, где не жил на квартире, по назначению городского управления, офицер, присланный с театра войны на поправку. И к чести граждан города, несмотря на отпускаемую плату за квартиру и стол, никто не брал денег, и с открытым сердцем все принимали пострадавших воинов в свои дома, окружая их почетом и радушным приемом и сердечным уходом.
Весьма немного было среди таких жильцов людей пожилых, женатых и вдовцов. В большинстве случаев на долю харьковцев выпадали жильцы, составлявшие собой цвет юной молодежи, офицеры, полные надежд, здоровья и упований на все лучшее, радостное, живое.
Этот период времени, когда в Харькове проживали офицеры, был периодом обновления жизни. В воду долго стоявшую при самом однообразном колебании, была влита новая, свежая струя, которая придала ей и цвет и вид, радовавший глаз. Среди военных было не мало гвардейцев, моряков и офицеров генерального штаба. Почти все они принадлежали к богатому дворянскому сословию и были с блестящим светским образованием.
Город Харьков не был беден любовью к музыке. Но с появлением этих гостей харьковские аршинники впервые познакомились и полюбили Бетховена, Моцарта и Гайдна. Чем-то радостным и небывалым заявили себя трио и квартеты на струнных и духовых инструментах. И, наконец, пение, которое совсем до этого времени не было в моде, вдруг огласило залы и гостиные богатых домов романсами Алябьева, Дюбюка, Глинки, Даргомыжского, Варламова и других композиторов того времени. И Харьков, имевший до этих дней не мало хороших пианистов, пробавлящихся пьесами Бейри, фантазиями на русские песни: «Соловей», «Что ты, ветка бедная», «Вот мчится тройка удалая» и проч. и проч., начал ласкать слух любителей музыки чудными аккордами Бетховена и мелодиею полного дум Шуберта и Шопена. Несмотря на недостаток преподавателей пения, не замедлили появиться на домашней сцене дружного семейного кружка прекрасные певцы, с голосами даже завидными и жадно ожидавшими хорошего ментора для своей разработки. Среди военных, украшенных георгиевскими крестами, были завидные певцы, с голосами – преимущественно баритонами и иногда тенорами. Образовались частные кружки частные кружки для совместного пения, и даже немцы, проживавшие в городе, образовали общество, названное «Liedertafel»[86]. Два раза в неделю члены этого общества, среди которых были и военные, собирались в особо нанятую для этого квартиру, в доме Ковалева, и пели хором преимущественно Lieder ohne Worte[87], Мендельсона-Бартольди и Шуберта. Жизнь семейная как-то оживлялась и каждый день давала новые впечатления. Оживились вечера и танцами и чтением литературных произведений, среди всей семьи, за круглым столом вечернего чая, под симпатичный шумок волшебника-самовара, в котором кипела вода к чаю, а вместе с нею кипели и сливались воедино мечты и чувства всех сидящих вокруг стола и горячо беседовавших о музыке и о ее обаятельном влиянии на душу. Сколько любви, в те дни было вызвано к жизни, разбужено от сна, освобождено от летаргии. Сколько молодых, свежих и трепетных сердец было завоевано молодыми Марсами не на поле битвы, а на поле мира, дружбы и взаимного доверия. Сколько свадеб, а рядом с ними и грустных романов совершилось в те дни, богатые радостными встречами и слезами разлуки?
Жил-был в Харькове богатый купец Верстовский, а у него была красавица дочка Любаша. Купец Верстовский когда-то торговал винами, а после закрыл торговлю и начал заниматься, как он выражался, дисконтом, а на самом деле – ростовщичеством. И странно: купец Верстовский хотя и был прост, а уж объехать своим дисконтом кредитора так умел ловко и чисто, что кредитор нередко в ноги кланялся дисконтеру и благодарил его за оказанное благодеяние.
- Да что вы, что вы? – как бы пораженный приливом благодарности кредитора, говорил Верстовский. – Я никаких вам благодеяний не сделал. А я только по-божески рассчитался с вами. Потому, поверьте мне, всем нам помирать надо, истинно вам говорю. А там, на том свете? Подумать, друг мой, страшно!!! Вот оно что, мой милый. Все надо по-божески делать!..
И кредитор, умиленный мудрою речью, а особенно открытою Верстовский истиною, что всем нам помирать надо, шел с восторгом домой и уж только там, дома, оглядывался на себя и видел, что он пошел к Верстовскому в рубахе, а пришел домой без рубахи. И думал кредитор, где и как могла исчезнуть его рубаха, да так и не додумывался.
Хороша и пригожа была Любаша, что твоя краля бубновая, была она нарядная да приглядная. А в доме ее отца стоял на квартире поручик Ганевский, сын помещика Орловской губернии, имевшего более трех тысяч душ крестьян. Федор Михайлович Ганевский, двадцати трех лет, офицер, получил рану в грудь. Но пуля прошла под третье ребро, поранив нижнюю конечность левого легкого, и затем, пройдя под кожей, остановилась под левой лопаткой. Выпущенный из лазарета, поручик Ганевский получил на три месяца отпуск и был откомандирован в г. Харьков на поправку. Судьба дала ему квартиру у купца Верстовского. Тяжела скучна и нерадостна была жизнь поручика в доме Верстовского, который ложился спать в десять часов вечера, соблюдал со всею строгостью посты по средам и пятницам и не любил принимать у себя гостей. А когда он был именинником, то сзывал к себе во двор и кормил нищих или отправлял в острог арестантам пироги. Рояль хорошей конструкции стоял закрытым, ноты лежали в пыли.
Затосковал Ганевский, квартируя в доме Верстовского, и даже порывался заявить начальств, чтобы его перевели куда-либо в другой дом. Но Любаша, с которой виделся каждый день поручик Ганевский за обедом и за вечерним чаем, нравилась ему, и потому он откладывал со дня на день свое желание перейти на другую квартиру.
Между тем, и Любаша, истомившись вконец монастырским режимом жизни и видя, как ее подруги в других домах проводят время среди молодежи, в свою очередь затосковала о своем положении и начала чаще проситься в гости то к тем, то к другим знакомым. Родители не препятствовали Любаше веселиться и следили только строго за тем, чтобы Ганевский не бывал в тех домах, где бывала Любаша. Но кто же и когда перехитрил любовь?
В то время как папаша читал Четьи-Минеи[88], Любаша вместо того, чтобы прямо идти в дом знакомых, отпускала горничную и шла под руку с Федюшей, не переставая смотреть ему в глаза, слушала и слушала его сладкую и радостную песнь любви. Так шли дни за днями. Мальчишка-амур делал свое дело, избравши Любашу и Федюшу мишенью своей охоты, и, наконец, в один из вечеров прекрасный Марс увез Любашу в одну из деревень, за сорок верст от Харькова, с целью перевенчаться в деревенском храме, где заранее все было подготовлено. Но этот раз горничная изменила своей барышне, потому что в ней встретила самую опасную свою соперницу, которую тем или иным способом пожелал удалить Горничная, возвратясь домой, поспешно все рассказала отцу и матери Любаши.
Верстовский, который доставлял в буфет генерала разные вина, зная, как губернатор радеет о благонравии, недолго думая поехал к нему и просил защиты.
Кокошкин немедленно послал двух квартальных и двух полицейских в догоню, приказав не допускать венчания.
Как ни спешил, однако, строгие блюстители благонравия, как ни быстро ехали квартальные Дудышкин и Шумейко, а все же они нагнали молодых уже в деревне и застали их стоявшими под венцом. Уже были надеты венцы и молодые обведены вокруг аналоя три раза, уже они обменивались кольцами, как вдруг Дудышкин и Шумейко явились в храм и начали требовать, чтобы венчание было приостановлено.
- Теперь, если вы этого желаете, можно венчание и приостановить! – ответил смиренно священник. – Но брак совершен, вошел в полную свою силу и по законам церкви святой не может быть расторгнут! – ответил священник квартальным надзирателям.
Квартальный Шумейко, не останавливаясь, продолжал заявлять свои требования, но два молодых воина, товарищи Ганевского, нисколько не церемонясь, вывели обоих представителей власти и порядка из церкви и, затворив за ними двери, стали у ее раствора настороже.
Через несколько минут перевенчанные молодые, веселые и полные надежд на счастье и любовь, вышли из храма, сели на свою тройку и уехала обратно в Харьков, в гостиницу «Харьков», помещавшуюся на Николаевской площади, на месте, где в настоящее время находится городской дом.
В гостинице их ожидали три роскошно убранные номера, с женской прислугой и с товарищами молодого мужа, которые его бокалами шампанского.
В той же гостинице был ужин, и только недоставало музыки и танцев, чтобы свадьба была исполнена по всем правилам общепринятого этикета.
Как бы то ни было, а свадьба была отпразднована на славу. Но слышно было среди людской молвы, что будто бы Федор Михайлович Ганевский очень сердился на погоню за ним, даже писал об этом в Петербург. Не утверждая правдивости этих слухов, спешу только сказать, что вследствие ли случайного совпадения, или по каким-либо другим причинам, но только консерватор благочиния и благонравия с тех пор отказался совсем от вмешательства в любовные дела и закрыл навсегда свою камеру суда.
Но, описав этот комичный случай, закончившийся свадьбой, я не могу обойти молчанием другой роман, который интересен уже и потому, что он представляет собой характерную черту того времени.
Генерал-губернатор всегда интересовался колодцами, которыми вообще богата Малороссия, да и Харьков никогда беден не был ими. Едва начинал огораживать себя с улицы и от соседей новый жилец, купивший место, как уже намечалось местечко для колодца, хотя бы у соседа уже был колодец и не запрещалось никому пользоваться из него водою. Эта страсть к колодцам частью объясняется и тем, что малороссиянин вообще очень домовит и любит окружать себя на недалеком расстоянии всеми благами обыденной жизни. Другая причина, не менее важная, хранится в том, что в Малороссии, особенно в степных местах, вообще чувствуется недостаток воды. Колодцы же в большинстве случаев имеют в себе или солонцеватую воду, или же с осадком известково-глинистого ила, придающего воде особенный вкус. На всем пространстве, какое занимает раскинувшийся на все четыре стороны Харьков, он искони имел только одну Карповскую криницу, которая бесспорно заключала в себе обильный ключ чистой и вкусной воды. Затем, так называемая Белгородская криница и многие другие колодцы всегда были необильны водами и не отличались вкусною водою.
Весьма понятно, что заботливый генерал Кокошкин, если видел, что у кого-либо во дворе копают колодец, непременно останавливал на нем свое пытливое внимание и интересовался тем, какая вода окажется в колодце. Если же ему представлялся случай при казенной постройке выкопать колодец, то для достижения этого желания его никто и ничто не могло остановить. Так, строивши на самом возвышенном месте города здание ветеринарного института, он выкопал во дворе его колодец в сорок восемь с половиною саженей глубины и достиг действительно хорошей воды. Но вода на такой большой глубине часто задыхалась и становилась противною для питья, что и побудило упразднить навсегда этот колодец. А между тем при рытье этого колодца не обошлось без человеческой жертвы. Один из грабарей на рассвете спустился на дно шахты продолжать работу и задохся от собравшихся за ночь удушливых газов.
В последней моей беседе я затронул лучшее время жизни г. Харькова. Я беседовал с читателем о тех месяцах, когда в Харькове из действующей армии присылали раненых на поправку, размещая их по домам богатых обывателей.
Но все мною сказанное было так кратко, так неполно, что я не могу не остановить внимания читателя на некоторых подробностях и особенностях этих месяцев, богатых новыми впечатлениями, вновь испытанными чувствами.
Опять мечты, опять воспоминанья
О жизни прожитой,
Как хартия забытого преданья,
Она – передо мной.
И годы юности, счастливые, былые,
Переживаю вновь,
И призраки душе моей родные
Волнуют кровь…
В кругу этих семей, кто желал, всегда мог запастись свежими силами для борьбы с жизнью…
Против «Астраханской» гостиницы дом в описываемые годы принадлежал весьма богатому купцу Телкову,[89] который торговал золотыми и парчевыми товарами, а также и шерстью, покупая ее большими партиями и отправляя в Москву.
Торговля Телкова шла всегда бойко, и он наживал хорошие деньги. Но кроме указанных мною товаров, которыми торговал Дмитрий Петрович, был у него еще один ресурс, дававший ему весьма завидную прибыль.
В то время в Одессе существовало порто-франко, и потому хотя евреи не имели права жить в г. Харькове, но все же по христианской доброте квартальных – Дудышкина, Стуколкина и братии – они пробирались в Харьков и потихоньку проживали в городе по два и по три дня. Специальные занятия этих временных жильцов Харькова состояли в том, что они привозили тайком из Одессы товар, не оплаченный пошлиной, и сбывали знакомым торговцам – любителям быстрой и легкой наживы, преимущественно оптом. Нет сомнения, что этого товара было привозимо ими в достаточном количестве. Привозили эти евреи шелковые материи, настоящее голландское полотно, дорогие часы, различные бронзовые вещи, как предметы изысканной роскоши, кружева, настоящий лионский бархат, тюль, рюш, блонды, батист, настоящие французские перчатки, английские духи и вообще произведения того чудодейственного алхимика из Парижа, который когда-то хлопотал превратить все в золото, а в девятнадцатом столетии сузил программу своей задачи и специально занялся превращением безобразных женщин в неземных существ, хотя и с очень земными помыслами…
Этих евреев знали весьма немногие, и потому они дорожили своими покупателями и с полным доверием относились к ним. В числе таких покупателей одним из самых важных избегали этого важного покупателя, но кто хотя раз побывал у него и доверился ему, тому оставить Телова, миновать его, не продать ему своего товара было невозможно. И потому хотя и не желали, но шли к нему и продавали ему свой товар скрепя сердце.
Дело в том, что Телков, как очень богатый купец, жил открыто и был в хороших отношениях со всеми сановниками города. А потому ему ничего не стоило еврея-контрабандиста, обошедшего его в продаже привезенного им товара, передать в руки начальства и тем наказать неразумного ослушника. А так как эти случаи уже были, то его и боялись чем-либо обидеть. Но как ни были осторожны евреи, а все же не мало их попадалось в руки Телкова. Обыкновенно еврей приносил к Телкову контрабанду и предлагал ее купить. Телков, не торгуясь, давал продавцу ту цену, которую просил он, но иногда не расплачивался и, в крайнем случае, уплачивал только половину стоимости всего товара, остальную же сумму он требовал оставить у него в кредит на близкий или дальний срок. И вот с этого часа начинал над головою еврея дрожать и колебаться Дамоклов меч. Когда еврей приезжал в назначенный срок , конечно, с новым багажом контрабанды, Телков весь новый товар оставлял за собою и опять назначал на платеж за него условный срок. Но когда еврей обращался к нему с просьбой заплатить ему деньги по старому счету и опирался на им же назначенный срок, то Телков с удивлением выслушивал заявление еврея.
- Как деньги? За что деньги? – пораженный требованием еврея, возражал почтенный купец.
- Ну, как за что? – в свою очередь с удивлением возражал еврей. – Я вам товар доставил, а вы сказали подождать вам деньги. Ну, я и ждал вам деньги. А теперь срок пришел, я и прошу отдать мне деньги.
- Да какой товар ты мне доставил? О чем ты говоришь? – продолжал не понимать Телков.
- Да известно какой. Такой же, как сегодня вы у меня купили, – спешил ответить еврей.
- А сегодня какой я у тебя купил товар?
- Известно какой товар. Я вас никогда не обманывал. Это настоящий заграничный товар – контрабанда! – отвечал еврей.
- А…а…а!!. Так ты контрабандой торгуешь? Так ты и тогда, значит, мне контрабанду продал? И я, честный купец, и я, именитый гражданин, был введен тобою в государственное преступление? Ах ты, негодяй жид? Я тотчас еду к губернатору и докладываю ему, что у меня в лавке под надзором находится еврей-контрабандист, а вот и товар, привезенный им, налицо…
Еврей перед честным купцом и именитым гражданином падает на колени и начинает умолять его о пощаде.
- Господин купец, ваше именитое-ство! – вопиял еврей. – Пощадите и не губите отца, кормильца семерых детей…
- Нет, для меня имя и честь дороже твоих детей! Ты знаешь, кто я такой? Ты знаешь, что у меня губернатор обедает и архиерей чай пьет? Ты знаешь, негодяй, что мне губернаторша ручку подает? Ты знаешь?.. Да ты знаешь, каналья этакий?..
И честный купец топал ногами и начинал теснить своею фигурою несчастного еврея.
Еврей ползал по полу потайной комнатки магазина и, валяясь у ног именитого гражданина, слезно умолял его о пощаде, обещая не требовать с него денег ни за привезенный товар, ни по кредиту прошедшего долга.
- Вставай, мерзавец и моли своего бога, что он тебя отдал в руки христианина, – наконец милостиво произносил свое решение добрый человек. – Иди себе с богом и помни, что Телков вспыльчив, но от него ни один еще человек не пошел по миру. Уходи!..
И еврей, схватив шапку в охапку, спешил, не оглядываясь, уйти, убежать от честного купца и выгодного покупателя…
Купец Телков имел троих сыновей, которые воспитывались в коммерческой академии в Москве, и очень красивую дочь институтского воспитания, за которой он дал тридцать тысяч денег, нажитых им честным трудом. Дочь была замужем за доктором медицины Калининым. Все три сына блестяще окончили курс учения и были известны в городе как молодые люди прекрасного воспитания и при этом весьма талантливые музыканты. Старший сын, Дмитрий служил в Петербурге по министерству внутренних дел и при этом был хорошим ксилографом, участвуя в различных журналах, а также в художественном листке, издававшемся художником Тиммом[90]. При этом он играл на виолончели. Другие два сына, Иван и Павел, жили в Харькове, причем Иван был хороший скрипач, а Павел играл на виолончели. И эта поэтическая и высокой культуры семья произошла от такого честного и именитого купца, каким считал себя Телков! Но выдающеюся женщиной по уму и сердцу была его жена, и, как мать, она передала своим детям все свои прекрасные качества. Купец телков умер внезапно, оставив детей еще не окончившими курс наук, и только дочь его была замужем, как я сказал выше, за доктором медицины Калининым. Вдова купца Телкова, желая поддержать состояние мужа, вскоре после смерти его вышла замуж за своего старшего приказчика Лимова и не ошиблась. Лимов – это был идеально честный и добрый человек и, как коммерсант, обладал знанием торгового дела. Торговые дела Лимова пошли успешно. Торговлю парчою он прекратил и начал торговать модным товаром и шерстью, отправляя большие транспорты ее в Москву и Петербург на имя различных фабрикантов сукон и шерстяных материй. У Лимова были две дочери-красавицы: Ольга, окончившая курс в институте, и Капитолина, самая меньшая и тоже девушка выдающейся красоты. И вот в летние месяцы, во втором этаже уголовного дома, вечером, когда суета города и грохот экипажей умолкали, отворялись нередко окна их квартиры, и дуэты, трио и solo на рояле начинали наполнять воздух чудною гармониею звуков, привлекая к себе толпу слушателей, располагавшихся группами на площади и даже в переулке. К этому импровизированному концерту нередко присоединялись голоса певцов, – знакомых офицеров, защитников Севастополя. Но недолго суждено было Лимову вести счастливо торговлю. Как я уже сказал выше, Лимов отправлял шерсть фабрикантам. В Москве в это время был известный фабрикант суконных товаров – Александров, который ежегодно покупал у Лимова шерсти на тридцать и на сорок тысяч рублей. Но так как Лимов сам много кредитовался в Москве, между тем в то время было нелегко большие суммы денег перевозить почтовым трактом на большие расстояния, то вследствие долгих и дружественных отношений С Александровым Лимов отсылал к нему шерсть в кредит, а приезжая в Москву сам за покупками, знал, что у Александрова лежат для него готовые тридцать-сорок тысяч рублей, без всяких обеспечений векселями и расписками. Теперь такое безусловное доверие – немыслимо, а в то время оно было далеко не редкость.
Однажды Лимов приехал В Москву с целью оправдать свой кредит и купить вновь товара для весеннего сезона. Но каково же было его удивление, когда его друг Александров на вопрос Лимова, когда он назначит ему придти для получения тридцати пяти тысяч рублей, которые должны у него храниться на случай его приезда, отвечал категорически, что у него никаких денег не хранится, что он ему ничего не должен.
Лимов в первые минуты такой ответ принял за неуместную шутку. Но еще несколько минут объяснений, и он понял, что Александров не шутил и что он обобран… Вышел Лимов от Александрова, едва сознавая, куда он идет и что делает. Впереди у него ничего не было, кроме всей его семьи, а также трех молодых людей умершего Телкова. Едва помня себя, Лимов, взойдя на середину Москворецкого моста и увидав крупною зыбью подернутую воду, с размаха бросился с моста в реку и скрылся под водою. Но через минуту-две Лимов вынырнул и показался над водою. Немедленно ему была подана с двух лодок помощь, и он был спасен от смерти, хотя, искупавшись в ноябрьской воде, перенес сильный тиф.
Как я уже сказал выше, старший сын Телкова, Дмитрий, служил в Петербурге, Иван же Телков сделался бесповоротным пьяницею, а Павел сошел с ума. Но Александров долго еще жил и, умирая, передал большой капитал своим детям.
Что касается прекрасной и талантливой Ольги, то она была обманута молодым и богатым студентом, вследствие чего отравилась и умерла в Москве в городской больнице, оплаканная обнищалыми отцом и матерью.
Были в Харькове богачи-купцы, которые в те годы были известны под именем «медвежьих пестунов».
В то время между народом ходила и упорно держалась легенда, будто бы в г. Нахичевани есть один жилой двор, в укромном уголке которого был потайной ход в довольно обширный погреб. Вход этот закрывается плотно деревянным мостом (лядой), на котором постоянно пребывал на цепи прикованный к столбу медведь внушительной величины. В этом погребе, хранимом медведем, была фабрика фальшивых кредитных билетов, или, как они назывались, «печерицы нахичеванских погребов». «Печерицы нахичеванских погребов» разносились по югу России агентами различных типов.
Агентом этого дела был и купец богач, потерявший всякое понятие о чести и долге, был и немец, пришедший из своей родины, в которой он был последним, а у нас, на Руси, мечтал быть первым, и еврей, среди самих евреев признанный за бесцеремонного плута; был тут и француз, где-то бросивший свою шарманку и очень желавший поступить в гувернеры-воспитатели русского юношества, но вследствие неудовлетворенной привычки каждый день подкреплять себя пищей попавший в агенты медвежьей фабрики. Были тут и русачки, несчастные неудачники, и выросшие на улице дети, никогда не знавшие своих отца и матери. И вот такие-то агенты получали в кредит несколько пачек фальшивых ассигнаций и где пешими, а где присевшими на облучок ямщика передвигались из села в село, из города в город и развозили и разносили эти медвежьи дыры по весям земли русской. У некоторых из них были среди богачей как дворян, так и купцов, такие приятели, у которых они всегда имели и приют, и стол, и даже приличный костюм с барского плеча.
Среди таких-то приобретателей медвежьих денег в Харькове тоже, как упорно гласила молва, было несколько купцов, тяготевших к быстрой и легкой наживе и не стеснявшихся для этой цели средствами. И вот один из таких купцов, Е., известный в то время торговец шерстью и особенно большим шерстомойным заведением, богател быстро и был, будто, заговорен ворожбою от объединения. Бывали случаи, что вследствие неожиданного понижения цен на шерсть его сотоварищи по торговле в один день несли убытки в десять и двадцать тысяч рублей, беднели и даже разорялись, а Е. сидел на своей мойке или в своем саду. И пробки с шампанского, как ракеты, летели в воздух, вещая о ликовании счастливца, не знавшего убытков.
Был у этого Е. знакомый немец Иоганн Фрахт. Низенького роста, с глазами, пораженными трахомой, – немец, плохо говоривший по-русски и любивший крепко выпить, как неудавшийся механик, приютился у медвежьей фабрики в Нахичевани, и скоро сделался весьма способным агентом по распространению фальшивых кредиток среди доверчивой толпы и ненасытных сребролюбцев. Характерная особенность этого Иоганна Фрахта состояла в том, что он пьяным был гениален в своей находчивости и умении сбыть фальшивые кредитки и сменять их на настоящие. И чем сильнее хмель овладевал его головою, тем труднее было его обойти. Когда же он был трезв, что, впрочем, случалось с ним, редко он был скорее глуп, чем умен, и неуместно хвастлив. И это второе свойство его погубило. Где-то как-то он проговорился и потому был арестован и взят под стражу. Этапом он был препровожден в харьковский тюремный замок и, как русский подданный, родом из Риги, должен был быть судим по русским законам.
Об этом неожиданном происшествии узнали те, которые имели с ним, как с медвежьим агентом, дело. Узнал и Е. Был сотворен общий совет и по всестороннем обсуждении пришли к такому умозаключению: для того, чтобы спасти себя, необходимо было постоянно спаивать немца, а так как этого невозможно было сделать в тюремном замке, то, во имя собственного сбережения, лучше не пожалеть денег, положить за него залог и взять его на поруки. Так порешили, так и сделали. Но так как Е. был богаче других, а следовательно и более, чем другие, обязан Иоганну Фрахту, то, недолго думая, он взял его на поруки к себе и поместил его на шерстомойном заведении, в маленьком домике, в одну комнату, с сенями, где когда-то помещался сторож, а потом этот домик-сторожка стоял уже много лет пустым и, находясь без всякого ремонта и поддержки, медленно разрушался. В этом домике и поместился Иоганн Фрахт, которого частью из опасения, что его могут призвать к допросу, постоянно спаивали водкой. Но недолго пришлось Иоганну Фрахту вольготно и на готовой выпивке пожить в избушке Е.
В июльскую ночь весьма жаркого лета, на праздник пророка Илии, загорелся домик, где безмятежно спал агент медвежьей фабрики, а через полчаса потолок хатенки провалился и придушил Фрахта. Все служащие, на далеких расстояниях друг от друга, спали на шерстомойне непробудным сном, и когда кто-то из них проснулся, то сторожи уже не было, а на месте ее стояла печь с трубою и дымился ворох обломков, покрытых золою, местами рдевшею огнем. По раскопке пепелища найден был труп Иоганна Фрахта, по положению которого можно было заключить, что пострадавший моментально был лишен жизни, вероятно, тяжестью упавшего на него потолка, так как кровать, на которой лежал Фрахт, была разбита в осколки и почти вся сгорела. Так как следствие по делу сбыта Фрахтом фальшивых кредитных билетов еще не было начато, то за смертью подсудимого дело было прекращено и сдано в архив. Что же касается приятелей его, то они благонравно продолжали вести свои торговые дела и были почтенными и примерными гражданами города Харькова.
[1] Топкое место, вязкое болото.
[2] Скорее всего вымышленный персонаж, или собирательный образ, т.к. полицейского чиновника с такой фамилией в Харькове не было.
2 Скромность; здесь – фасон платья.
[3] Как я счастлива.
[4] Она переменила грим.
[5] По-итальянски – «сладкое ничегонеделание».
[6] Василий Михайлович Ломакин (1763 г.р.) - родом из Белгородских мещан, харьковский купец 2-ой гильдии, разбогател на продаже в Харькове железных и медных изделий. С 1811 по 1823 гг. Харьковский городской голова. В первой четверти XIX в. владелец лучшего дома в Харькове, в 1817 и 1820 гг. в его доме останавливался император Александр I. Жена Пелагея Андреевна, дочь харьковского купца Аникеева. Достоверно известно о двух его дочерях: Наталье (1793 г.р.) и Анне (1795 г.р.).
[7] По-латыни – облик.
[8] Сергей Александрович Кокошкин (1796-1857) – генерал-адъютант, Харьковский генерал-губернатор с 1847 по 1856 гг. За время пребывания в должности насильственным образом привел Харьков к благоустройству, какого ранее здесь не видели. Были устроены каменные мостовые, тротуары, прочные мосты, фонари горящие на спирту, выпрямил улицы, избавил центр города от соломенных крыш, естественно и от значительных опустошений во время пожаров. При этом следует указать, что такой насильственный путь был единственной возможностью проводить благоустройство города, ведь большинство городского общества высказывало полное равнодушие к общественным интересам.
[9] По-латыни – метод, способ действия.
[10] По-французски – для моей тетушки
[11] Ошибка автора, род Ломакиных из Белгородских мещан.
[12] По-французски – смысл существования
[13] Скорее всего, это выдумка автора, или другого человека. При подготовке материалов по истории харьковской полиции нами изучены все происшествия до 1860 г. Которых надо сказать было не так уж и много в первой половине ХIX ст. и такой эпизод был бы обязательно описан.
[14] Скорее всего речь идет о харьковском купце 2-ой гильдии Иване Иконникове или об одном из его сыновей - Николае (1812 г.р.), который с 1841 по 1844 г. был депутатом для поверки торговли, с 1847 по 1850 г. ратманом городового магистрата. Имел благодарность императора за пожертвование бессрочно отпущенным нижним чинам 1448 руб. серебром. Имел две лавки в Таганроге, одна из которых перешла ему по наследству. Дети: Николай (1846 г.р.), Александра (1846 г.р.).
[15] Разносчиками.
[16] По-латыни – необходимое условие.
[17] Сергей Кондратьевич Костюрин (1.06.1818 – 20.02.1870) – Харьковский купец 1-ой гильдии, харьковский городской голова и благотворитель. На его пожертвования строилась Иоанно-Усекновенская кладбищенская церковь, а также перестраивалась Крестовоздвиженская (Мироносицкая) церковь, благоустраивался детский приют. Был похоронен в ограде Мироносицкой церкви, сегодня на этом месте Зеркальная струя.
[18] Ныне на пл. Конституции, до 1917 г. Николаевская площадь. В советские времена носила имя Тевелева и Советской Украины.
[19] Кузьма Никитович Кузин (1789 – 4.03.1844) – харьковский купец, коммерции советник и кавалер. Похоронен на Холодногорском кладбище. Над его прахом жена Екатерина Игнатьевна (? – 4.08.1871)построила часовню, позднее церковь во имя Всех Святых, на престол во имя святых бессребреников Козьмы и Демьяна вложила в 1846-48 гг. более 20000 руб. серебром.
[20] По-французски крайности сходятся.
[21] В советские времена носила имя Свердлова, сегодня называется Полтавский шлях.
[22] Улица Рыбная в советские времена была вначале Кооперативной, потом Лаврентия Берии, в 1954 г. вновь стала Кооперативной. Улица Конторская сегодня называется Краснооктябрьская.
[23] Крещенская – большая мануфактурная ярмарка.
[24] Зажоры – ямы, образующие на дорогах во время распутицы.
[25] Очевидно Голиковы приезжие, поскольку среди купцов г. Харькова с такой фамилий до 1858 г. не существовало. А вполне возможно и изменение фамилии автором.
[26] Скорее всего речь идет о детях Харьковского 3 гильдии купца Алексея Федоровича Кожина, что до Гвоздева, то и таких купцов в Харькове не было, скорее всего фамилия изменена.
[27] Вопрос о принадлежности В. Ломакина к старообрядчеству весьма спорный, поскольку с начала XIX ст. он является прихожанином Харьковского городского Успенского собора.
[28] Колена
[29] Бабочки
[30] По-французски – прозвища
[31] Трудно сказать правду ли пишет Карпов, поскольку небольшой гончарный завод в Будах был и прежде 1878 г. когда его приобрел М.С. Кузнецов.
[32] Ныне площадь Розы Люксембург
[33] В то время в высшем кругу были приняты карсельские лампы с часовым механизмом, горевшие деревянным маслом.
[34] Бог моря в римской мифологии.
[35] Музыкальные вечера
[36] Жизнеописание
[37] Речь может идти о коллежском советнике Николае Николаевиче Бахметьеве (11.02.1820 – 10.11.1880), который был предводителем губернского дворянства в 1855-58 гг. Или же о его родном брате статском советнике Александре (1824 г.р.), который избирался на этот пост дважды (1852-1855; 1858-1861).
[38] Французская пословица: «Пусть будет стыдно тому, кто дурно об этом подумает».
[39] Это дурной тон.
[40] Дорогие дети.
[41] Вечер для упражнений.
[42] Красота стоит миллион, а скромность бесценна.
[43] Кто не сможет свести свои счеты – тот ничего не стоит.
[44] Буквально – сын со второй постели.
[45] Сегодня ул. Энгельса.
[46] Русские дети – это нечто невозможное, и все они тупоголовые.
[47] Что-нибудь.
[48] Из греческой мифологии – бог вина.
[49] Роман Дюкрэ Дюминиля (1761–1819)
[50] Роман Гольдсмита (1728–1774).
[51] Лубочная книжка.
[52] Наказание на Конной площади было уже в 1860-е годы, до этого для публичных наказаний была предназначена Лобная (Торговая площадь).
[53] Скромадить – сено грести; здесь –скребли
[54] Фамилия вымышленная, поскольку ни одного полицейского служителя с такой фамилией в Харькове не было. Возможно автор применил фамилию как собирательный образ, или попросту забыл подлинную фамилию.
[55] Прекрасная статуя
[56] В то время при приеме в солдаты годным брили лоб, а негодным брили затылок.
[57] Французская романтическая писательница (1766–1817)
[58] Здесь вечный отдых для меня; моя душа вас просит: не тревожьте ее! Сталь.
[59] Нимфомания – болезненно-повышенное влечение женщины к мужчине; соответственное состояние у мужчин – сатириазис.
[60] Вымышленная фамилия, или собирательный образ.
[61] Пластунами назывались разведчики-казаки в черноморском войске. В пластуны выбирались самые выносливые люди. Пластунские команды учреждены в 1842 году.
[62] Юлий Евграфович Глентцнер саксонский подданный, неклассный художник, прибыл в Харьков в 1872 г., разрешение на открытие фотографии получил 13 апреля 1873 г. Первоначально фотография располагалась на ул. Московской. С 1876 г. переехал на ул. Екатеринославскую № 22, в дом Фьерфора (позже дом принадлежал Гинсбургу). Как художник сам ретушировал фотографии, был одним из самых популярных профессиональных фотографов Харькова. В 1882 г. по неизвестным обстоятельствам фотографическое заведение в Харькове закрыл и переехал в заштатный город Славянск Изюмского уезда, фотография перешла в собственность А.М. Иваницкого.
[63] Евдоким Игнатьевич Волошинов был удивительным мастером-новатором как художник и фотограф. После обучения в Петербургской Академии художеств в 1859-1864 гг. преподавал рисование в Харьковском институте благородных девиц. Предвосхитив достижения художников начала ХХ века, вынес натюрморт «на воздух», под открытое небо, поместив его в свето-воздушном пространстве, сделав его восприятие как отражение мироощущения конкретного человека, его жизненного уклада. Не менее интересными по отзывам современников были фотографические портреты, пейзажи и натюрморты, выполненные Волошиновым. Был одним из первых харьковских фотографов.
[64] По-французски, буквально – мертвая природа.
[65] Юрисконсульт
[66] Имеется ввиду Андрей Федорович Квитка (25.11.1774 – 6.04.1844) – потомственный дворянин Харьковской губернии, сенатор. Родной брат писателя Г.Ф. Квитки-Основьяненко.
[67] Имеется ввиду Филарет - Дмитрий Григорьевич Гумилевский (12.10.1805 – 9.08.1866), который управлял Харьковской епархией с 1848 по 1859 гг.
[68] «Дешевкою» в то время называлась водка, купленная в кабаке за городом. Она была крепче городской и дешевле.
[69] По своему изволению.
[70] С начала.
[71] Счастливые народы не имеют истории.
[72] Чтобы быть счастливым, надо прятаться.
[73] Рамбулье – порода овец.
[74] Гонт – короткая дранка, иногда с закругленным концом, мелкие обрубки дерева для покрытия крыш.
[75] Безыменка – тес, доска тоньше вершка.
[76] Василий Иванович Болотов – харьковский купец, на завещанные им 25 000 руб. в 1872-75 гг. была построена каменная Петропавловская церковь на Журавлевке.
[77] Среди полицейских служителей в Харьковской городской полиции пристава с такой фамилией не было, скорее всего это собирательный образ.
[78] Василий Кондратьевич Елиокин – Грайворонский, потом Харьковский купец, строитель первой каменной Озерянской церкви на Холодной горе.
[79] Кравецтво – закройка.
[80] Собака зарыта.
[81] Паля – свая.
[82] Славянская непродуктивность.
[83] Еще в 1846 г. вдова коммерции советника Н.К. Кузина совместно с харьковским купцом 2 гильдии А. Климовым решили более активно использовать лавки принадлежащие Кузиной за рекой Лопанью. Прошение о переносе лавок из центра за реку Лопань поступило в 1846 г., но тогда очень активно выступило против этого переноса духовенство городского Успенского собора, который владел лавками, построенными вокруг собора. С.А. Кокошкин был не сторонник, чтобы соборная церковь была окружена лавками и в 1849 г. принял решение о переносе лавок из центра Харькова. Помимо Успенского собора в центре располагались не только лавки Успенского собора, но и купцов Харькова, главным образом Карповых. У А.М. Рудакова на собственном двором месте, располагавшемся на Николаевской площади, в нескольких зданиях были устроены торговые места. И конечно он также понес бы значительные убытки. В короткое время перенос оптовой торговли за р. Лопань был обсужден в среде Харьковского купечества, составлено письмо для обжалования такого переноса в Сенат. При этом собрания эти происходили в доме самого А.М. Рудакова, куда даже приглашали секретаря думы, для придания им законности. Последствием жалобы на С.А. Кокошкина стало смещение А.М. Рудакова от должности и 19.04.1852 г. на выборах городского головы был избран 2 гильдии купец Н.И. Иконников. А.М. Рудаков обжаловал это решение в Сенате и по его решению от 31.08.1852 г. Рудаков должен был быть восстановлен в должности. При этом Сенат предложил генерал-губернатору провести следствие о проступке А.М. Рудакова по незаконным собраниям граждан. И по высочайшему повелению 8 октября 1852 г. был выслан на два года в Уфу.
Автор исказил всю суть происходящего в 1852 г., представив С.А. Кокошкина ужасным полицейским самодуром. Он с такой уверенностью описал события, что даже Д.И. Багалей поддался на эти домыслы выходца из купеческой среды, чьи предки лишились торговых выгод, и прибавил их к «Истории города Харькова за 250 лет его существования». Историческая справедливость утрачена, вознесен на пьедестал упертый как баран купчишка, воспетый за свое отстаивание собственных коммерческих выгод, и в угоду низшим слоям населения Харькова, для которых благоустройство города не имело никакого значения.
[84] Загрустили, опечалились.
[85] По-немецки – сердцеедов.
[86] Певческое хоровое общество.
[87] Песни без слов.
[88] Жития святых
[89] Скорее всего эта фамилия вымышленная, или измененная, поскольку харьковского купца с такой фамилией в 1840-1860-е гг. не было.
[90] В.Ф. Тимм (1820–1895) – плодовитый художник, организатор «Русского художественного листка» (1851–1862), представлявшего собою художественную летопись эпохи.